Ура — поэзия — увы!
Леонид Йоффе, Алексей Парщиков, Марк Ляндо и другие
Глава из книги
«Вспоминая себя»
1
Я бы сказал по-другому и о другом: обычные люди дышат так, как их тому научили. Поэты дышат из своего бытия, своим истиннымдыханием ‒ это дыхание и есть их стихи.
«Поэзия ‒ это высшая форма существования языка», ‒ утверждал словопоклонник Иосиф Бродский. Ему вторил питерский поэт Виктор Кривулин: «Поэзия ‒ это разговор самого языка». Дальше ли вариации на тему: поэзия ‒ это разговор с Творцом, поэзия ‒ это разговор с самим собой, поэзия ‒ это форма словесно организованной энергии и т.д. и т.п.
Мне кажется, этот подход фиксирует лишь задержку дыхания ‒ препятствия на пути у воздуха ‒ именно так возникает звук. Но поэзия начинается до языка, проходит через языковую гальку и, ‒ встретив благодатного читателя, ‒ опять ныряет в ту глубину, на которой она родилась.
...Поэты, поэты, десятки поэтов России, Европы и Америки ‒ моя жизнь переплетена встречами, любовями, дружбами и приятельствами с поэтами. Перечислить всех невозможно: Валерий Дунаевский, Илья Бокштейн, Валентин Никитин, Анри Волохонский, Дима Авалиани, Виктория Андреева, Генрих Худяков, Леня Йоффе, ВалерийШленов, Марк Ляндо, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Иосиф Бродский, Игорь Лощилов, Алексей Парщиков, Алеша Хвостенко, Игорь Чиннов, Юрий Иваск, Ирина Одоевцева, Лидия Червинская, Юджин Ричи, Стивен Сартарелли, Кетлин Рейн, Ричард Маккейн... ‒ пальцев не хватит, а ведь это только малая толика, и это только те, чья поэзия стала частью моей жизни и моего существа. А сколько тех, чьи стихи были мною отвергнуты! Еще больше поэтов, с которыми я не сумел встретиться, в том числе и по хронологическим обстоятельствам, но влияние которых на мою судьбу было огромным. среди них Гомер, Гете, По, Кольридж, Рембо, а из русских Державин, Блок, Аронзон, Баратынский, Введенский... Вне зависимости от дарования и судьбы ‒ каждый по отдельности и все вместе они несут в себе боль и восторги причастности к Подлиннику, с которого все они, по слову Леонида Аронзона, лишь переводчики.
По мере того, как время настойчиво и неумолимо подмывает мои берега, я чувствую в себе растущую волну нежности ко всем своим друзьям-поэтам и особенно к тем из них, кто был меньше и незаметнее. Впрочем, каждый из названных и не названных мною друзей был по-своему велик и великолепен ‒ при том, что на моем веку поэзия ни разу не поднималась так, как она поднимается изредка в человеческой истории. Слишком страшными были прошедшие полвека: в мире царило зло, и быть поэтом было опаснее, чем сапером. Поэты только и делали, что прятались от жестокого века и искали опору. Но куда спрячешься и на что обопрешься?
Леонид Аронзон подрабатывал мыловаром, геологом, грузчиком и сценаристом документального кино. Дима Авалиани служил вахтером в доме «профессиональных» писателей и поэтов. Анри Волохонский начал свою эмигрантскую карьеру, изучая химический состав Геннисаретского озера в Галилее («Галилея! Аллилуйя!» ‒ писал он тогда), но не выдержал затхлого воздуха земли обетованной и нырнул в клоаку американской радиостанции «Liberty». Ричард Маккейн работал внештатным переводчиком в турецком консульстве в Лондоне. Валерий Шленов подвизался церковным чиновником в отделе катехизации Московского Патриархата. Генрих Худяков много лет подпирал собой стены американского велфора, сначала в качестве получателя пособия, потом ‒ служащего. Его поставили на ликвидацию устаревших дел, которые нужно было искать на железных стеллажах, и в свой первый рабочий день он сдал начальству 20 просроченных папок. Это вызвало переполох ‒ до него на этом месте никто не давал такой сумасшедшей производительности. О его неадекватности заговорили в руководстве, бедного Генриха собирались уволить, но доброжелательные негры научили его, как себя вести, и он стал сдавать не больше трех папок в день. Дни напролет он полеживална коробках между стеллажами, и за шесть лет его там никто не побеспокоил.
Поэты зарывались в песок, отлеживались между стеллажами, отсиживались на чиновничьих стульях, а некоторые делают это до сих пор. Но не от трусости, нет ‒ поэты скрываются от своего времени, чтобы по каплям собирать ту таинственную энергию, которая должна опрокинуть ложь века сего, в ожидании, когда, наконец, все человечество, оставив скорбные занятия, станет содружеством поэтов, музыкантов, художников, мыслителей.
Поэту хочется опереться на что-то надежное, хочется, как это было в древности, пережить встречу с Аполлоном-Кифаридом, с Беллерофонтом, оседлавшим крылатого коня и победившим химер, или, на крайний случай, с какой-нибудь пифией или нимфой. Платон и Кант отняли у нас эти подпоры и вынесли приговор: поэзия есть нечто либо потустороннее, либо непостижимое. И если Платон еще допускает возможность (для философа ‒ не для поэта) выбраться из пещеры и вступить в мир ноуменов, кантовский вердикт жестче и категоричнее, ибо раз и навсегда устраняет всех пифий, пророков и поэтов. Но поэты не верят Канту и продолжают искать хоть какую-нибудь опору. Разве не трогательно звучат слова Гийома Аполлинера из его Бестиария, или кортежа Орфея:
«Те, кто занимается поэзией, не ищут и не любят ничего другого, кроме совершенства, которое само по себе есть Бог. Неужели же эта божественная красота, это высшее совершенство могут покинуть тех, целью жизни которых именно было их открыть и прославить? Такое представляется мне невозможным, и, по-моему, поэты имеют право надеяться на то, что после смерти обретут счастье, высшую красоту, к которой ведет лишь познание Бога».
Перефразируя Аполлинера, я бы сказал: потустороннее ждет своих детей-поэтов и из любви к ним, если не убивает их из ружья, как Леонида Аронзона, то сгибает им позвоночник, как Диме Авалиани, отнимает речь, как у Алеши Парщикова, или хоронит стихи в них самих, как в Валерии Шленове.
2
Еще до того, как я познакомился с Димой Авалиани, я встречал его очень часто, может быть, еще и потому, что мы с ним оба оканчивали Московский государственный университет: Дима ‒ географический факультет, а я ‒ философский. Перед Московским телеграфом на Тверской, если подняться на пять ступенек, есть площадка 20 шагов в длину. Как-то я наблюдал совсем еще молодого Диму, самозабвенно шагающего по этой площадке взад-вперед, при этом развязанные шнурки его туфель взметались и опадали змеиными головками при каждом шаге. Через час, когда я снова проходил мимо телеграфа, он продолжал свое стремительное вышагивание, никого вокруг не замечая. На другой день, проходя тем же маршрутом, я нашел его на том же месте и занятого тем же занятием. Он производил впечатление одержимого ‒ таких было много в те годы на улицах Москвы. Мне было одновременно и страшно его безумия, и соблазнительно с ним познакомиться, узнать его ближе.
Тогда я, кажется, впервые начал догадываться, какой платы требует от человека поэзия. Поэт не может обойтись малой мздой, которой откупаются от жизни обычные люди. За подъем, за восхищенность, за право на собственное дыхание поэт расплачивается изломанной или урезанной жизнью. Нельзя быть поэтом и рассчитывать на снисхождение судьбы, этому свидетельство ‒ судьбы практически всех настоящих поэтов. Их имена не нужно перечислять, их биографии не нужно напоминать ‒ они всем хорошо известны, ‒ однако мы предпочитаем этого не помнить и об этом не думать. Не знал этого и молодой Пастернак, а когда узнал ‒ ужаснулся:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью ‒ убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость ‒ это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Почему гибнут поэты? Почему не доживают до старости? Что делает их существование среди людей невозможным? И почему столько людей коверкают свои жизни, а поэтами не становятся. Судьба насмехается над ними, не давая им в награду за добровольно взятые на себя несчастья ни ума, ни таланта.
Поэзия ‒ это не вкус жизни, а вкус героической жизни, той, что «гибелью грозит» и несет эту гибель. Героика состоит как раз в том, чтобы найти свое подлинное дыхание и пытаться согласовать это с простыми человеческими понятиями. Тут неизбежен трагический результат, потому что поэт берет на себя непомерную ношу и, по правилам игры, сам себе вредит.
Когда я встретился с Димой Авалиани, он уже был данником поэзии ‒ без пути отступления. Глаза его смотрели на собеседника доверчиво и беспомощно ‒ в нем до конца было много детского. Он был задуман высоко ‒ это чувствовалось по его безоглядной погруженности в омут слов и по широте кругозора, но судьба поставила ему подножку, сокрушившую его волю и сломавшую его жизнь.
Как многие молодые люди в те времена, Дима ездил со студенческим отрядом в Казахстан поднимать целинные земли. Вот там, на сельскохозяйственных работах, закидывая копну на машину, Дима повредил себе позвоночник. Прошло время, и позвоночник начал медленно и неуклонно деформироваться. Но вначале болезнь его была незаметна, и ничто не отвлекало его от стихов. После университета Дима работал в каком-то экономическом НИИ, ходил два раза в неделю на работу, а все остальное время читал и сочинял. В то время он был высоким стройным юношей и еще не был женат. Стихи Димы были свежи и душисты:
Ловя рассыпанную тень,
Я говорю: какое лето!
Там то цветет, мелькает это,
Не умолкая ни на день.
Ни на минуту не минует
Нас бремя этой суеты,
Миры мушиные тоскуют,
Шуршат мышиные миры...
Эти свои ранние стихи Дима не помнил и ни в какой свой сборник их не включил.
Через Диму я познакомился с Леней Иоффе и Валерием Шленовым, и мы все были друзьями. Кроме того, Дима принес нам стихи Аронзона и Красовицкого, которые покорили нас с первой встречи и вошли в нашу жизнь безраздельно. К Аронзону Дима ездил в Питер, привозил нам живые впечатления и офорты аронзоновского приятеля Михнова. Официальных поэтов-эстрадников Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулину мы презирали и на свой Олимп, кроме Аронзона и Красовицкого, никого не пускали. Самоубийство Аронзона и обращение Красовицкого в христианство с последующим отречением от своих стихов ‒ это были события первостепенной важности на нашем тогдашнем горизонте. Влияние этих поэтов на нас было огромным.
В один прекрасный день Дима привез к нам веселую и смешливую девочку Леночку, провизора по профессии, которая рассказывала нам смешные истории о своей школе. Вскоре он с Леной расписался. Заботливая Димина мама обеспечила молодоженов прекрасной квартирой в центре города. Казалось, жизнь сулит им одни радости.
В те годы ‒ середина 1960-х ‒ водоразделом для нас была наша духовная ориентация. Жены Димы и Валерия тянулись к обрядному христианству, так же, как и Виктория, а Леня Йоффе на наших глазах круто повернул к иудаизму и через пару лет эмигрировал в Израиль. Я в эти годы проходил обкатку у Володи Степанова и его московского круга, бредившего Гурджиевым и суфизмом идрис-шаховского толка, кроме того, в 1968 году мы с Володей ездили на Кавказ в гости к Степану, увлеченному антропософией ‒ о регрессе в какую-либо религию для меня не могло быть и речи. Конфликтов по этому поводу у меня с Викторией не было ‒ ее саму, выросшую на поэзии Серебрянного века, привлекал мистицизм. Зато жены Димы и Валерия начали настраивать своих мужей против меня. Время от времени у Димы по моему адресу прорывалось словечко «сатанизм»: для новообращенных христианок все, что не шло от их батюшки, было сатанизмом. До разрыва, впрочем, дело не дошло: то, что нас связывало, было сильнее того, что разделяло. Лишь после нашего возвращения из эмиграции, Лена и Серафима окончательно нас осудили, и Валерий, вслед за Серафимой, порвал с нами всякие отношения. С Димой этого не произошло только потому, что его разрыв с Леной был уже решен. Лена пошла вверх по провизорской линии, используя для карьеры христианские связи, ездила в Европу и привозила оттуда столь необходимые для перестроечной России лекарства. Из полненькой девочки она превратилась в грузную мать семейства и семейного добытчика, которая до поры до времени ожесточенно тащила на себе детей и калеку-мужа. Пока с ней не случился инсульт.
К середине 1990-х Дима был отцом троих взрослых детей, однако в своем доме он себя чувствовал как на вокзале. Взрослый сын Иван не разговаривал с ним годами, девочки равнялись на маму. Дима уделял все меньше внимания экономической географии и служебным отношениям, да и НИИ стали закрываться один за другим. В конце концов, Дима остался без работы. Тогда он переквалифицировался в вахтера, зарплаты которого хватало только на кефир и сигареты. На этой работе Дима проработал больше десяти лет. Ночи напролет он составлял акростихи и палиндромы, которые нравились его молодым почитателям. Время от времени он читал эти произведения на своих вечерах, там же он демонстрировал свои листовертни ‒ неразборчивые слова, написанные на тарелках и других предметах; перевернув их, он демонстрировал ценителям этого визуального искусства иные слова, например, перевернутое слово «нельзя» превращалось в слово «делать». Некоторые из его палиндромов были действительно удачны («я барин и раб я» или «истоки и стоки»), но основная масса этой продукции угнетала натужностью найденных им соответствий и созвучий.
К концу жизни Дима был согнут пополам и не мог разогнуться. Он был несчастный и запущенный, туфли летом и зимой носил на босу ногу и свой единственный свитер никогда не менял. В храмах, куда он изредка наведывался, ему за его убожество подавали копеечку, и Дима брал, практикуя смирение. Он и был похож на бомжа, неухоженный, не нужный жене и детям.
Уже после того, как он ушел из дома и начал ютиться где попало, Диму подобрала его старая знакомая Марина, опытная риэлторша. Собрав друзей Димы, Марина рассказала нам историю о том, как она девочкой была влюблена в Диму и как она счастлива, что теперь с ним соединилась. Дима сидел за столом в белой рубашке и не знал, радоваться ему или печалиться.
Марина с места в карьер запустила Диму в квартирные махинации на пассивных ролях, что-то на него оформляла, где-то его селила ‒ Дима не возражал, но, естественно, во все это не вмешивался. Долго этот альянс не продержался ‒ для Марины, как и для Лены, Дима был слишком воздушным и неосновательным, ‒ и она с ним рассталась. И опять у Димы пошла полоса бездомности и одиночества: поистине, «жил, ища жилища».
Впрочем, все было не так уж и плохо. Димина популярность у молодых поэтов, ценителей словесной акробатики, неуклонно росла, ему устраивались поэтические вечера, на которых он вертел тарелками и картонками. У него появился небольшой склад объектов, исписанных перевертышами, которые он носил с собой или изготавливал, сидя у кого-нибудь в гостях. Вышло пять книг стихов.
Свой лучший акростих, в котором русский алфавит читался к началу от конца, Дима написал еще в начале 1990-х:
Я ящерка
ютящейся
эпохи,
щемящий
шелест
чувственных
цикад,
хлопушка
фокусов
убогих,
тревожный
свист,
рывок
поверх
оград.
Наитие,
минута
ликованья,
келейника
исповедальня.
Земная
жизнь
еще
дарит,
горя,
высокое
блаженство
алтаря.
Больше всего его угнетала его спина. Дима хватался за любую соломинку в надежде распрямиться. Он не верил в медицину, но надеялся встретить чудотворца или найти какой-либо чудесный метод излечения. Одно время, после моего возвращения из Америки, он и на меня смотрел как на возможного избавителя, допытывался ‒ не несу ли я какого-нибудь тайного учения, которое поможет ему исцелиться. Убедившись, что не несу, все же заинтересовался моими идеями, а познакомившись с моими молодыми друзьями и найдя в них искренний интерес к себе, стал постоянным участником наших посиделок, начал ездить на наши южные семинары и рассказывать молодым людям о современной поэзии.
В декабре 2003 года Дима был у меня в гостях. Гости разошлись перед закрытием метро. Ночью на пути домой, когда Дима перебегал улицу, его сбила машина. Прямо перед домом, где он тогда ютился, на пустой улице он побежал, не рассчитав скорости летящего наперерез автомобиля.
Я узнал о смерти Димы Авалиани после того, как его сожгли в крематории. Как и с каждой смертью близкого человека, во мне за шевелилось подспудно чувство вины ‒ все они умирали потому, что я чего-то не сделал или сделал что-то не то. Так было у меня с отцом, с мамой, с Викторией. То же повторилось с Димой: почему я позвал его в гости, почему не оставил на ночь, почему не поручил кому-нибудь проводить его до дома. Но ведь сотни раз он бывал у меня в гостях! «Знал бы, что упадешь ‒ постелил бы соломку», ‒ иронично прокомментировал мои терзания Валерий Шленов, заглянувший ко мне на огонек после смерти Серафимы.
Сейчас, когда я пишу о Диме, я представляю себе его пишущим воспоминания обо мне. Что бы он написал, как бы он меня вспомнил? В наших отношениях не было задних мыслей, недоверия и соперничества. «Истоки и стоки», героика и самообольщение, наитие и натруженность, наивность и искушенность ‒ многое оказалось перемешанным в нашей жизни и в наших писаниях. Дима прожил чистую жизнь ‒ самую честную, какую можно прожить в этом веке.
Почти сорок лет назад я набросал его портрет в моем рассказе «Казаринские дворики». Это рассказ о том, как в один прекрасный день мы с Викторией оказались в резервации, со всех сторон окруженной заборами и решетками. Узнав, что этим местом заведует Казаринов, один из моих университетских профессоров с лицом и походкой работника госбезопасности, я сразу понял, где мы находимся и что все это значит. И потекла жизнь в замкнутом пространстве резервации среди казарм, заселенных такими же, как мы, заключенными. Лица их были болезненные, глаза тусклые и испуганные. Цитирую дальше из рассказа:
«Дни тянулись один за другим, вечера и ночи сливались. Утром я подолгу смотрел на кусок пустого неба в окне, но ничего не узнавал и не слышал. Жена не мешала мне и не помогала, она была занята своим, молчалива и замкнута.
Когда темнело, мы выходили бродить по безлюдным закоулкам. Здесь однажды мы встретили Митю. Я сразу узнал его птичью прыгающую походку, растерянный, будто просящий защиты взгляд исподлобья. Мы обрадовались ему.
Он нисколько не удивился, увидев нас здесь, как будто мы встретились по пути на концерт. Едва поздоровавшись, он вернулся к нашему старому разговору.
‒ Дело в том, ‒ говорил он, глядя прямо перед собой, ‒ что мы не можем удержать в сознании две временные точки. Они разорваны для нас. Они бегут друг от дружки. Но как соединить их? Как не отрывать вчера от завтра? ‒ отчетливо повторил он и посмотрел на меня с таким торжеством, что я понял: на ответ он не надеется.
За изгородью спряталось солнце. Через несколько минут мы уже сидели на скамейке и разговаривали. Мимо нашей скамейки медленно и значительно проплыл Казаринов.
‒ Времени нет, ‒ задумчиво говорил Митя, ‒ время ‒ это иллюзия. Это то, что мешает нам соприкасаться с вечностью.
Мимо нас снова проплыл Казаринов. Митя взглянул на часы и встал, виновато улыбаясь.
‒ Ну, мне пора, ‒ сказал он, разводя руками. Мы кивнули...
Страшно подумать, что нет уже того времени, далекого, легкого, как и не будет этих часов с их ароматом выздоровления и надежды».
3
Оглядываясь на нашу затерянную во Вселенной планету, окидывая ангельским взором всех живших и живущих на ней, птиц, зверей, людей и насекомых, подавленные и оглушенные своей ничтожностью, мы спрашиваем: а может ли человек когда-либо преодолеть это ничтожество, может ли он стать равновеликим, если не Космосу, то хотя бы самому себе?
Мудрецы древности единодушно утверждали: некоторые люди могут ‒ при посредстве и с помощью Бога, который живет в них самих и к которому им нужно прикоснуться. Этот Бог есть их собственное «Я», которое им ближе всего, но с которым обычный человек не имеет никакого касательства.
Лишь при редчайшем совпадении обстоятельств и при величайшем напряжении воли такой человек пробивается к своему внутреннему Богу и начинает говорить голосом своего собственного «Я». И тогда рождается Поэт, Музыкант, Мыслитель, Святой, Пророк или Мессия, который больше не принадлежит топчущему эту Землю стаду, но становится существом иной природы, о котором люди создают мифы и рассказывают сказки, сами в них не веря. Этим сказкам верят человеческие дети до той поры, пока взрослые не убьют в них их редкий шанс на прозрение.
Но бывает, что некоторым из этих пока еще не убитых детей удается пройти через все препоны и донести до нас две-три песни неотсюда, а потом уйти, оставив после себя недоуменных свидетелей произошедшего чуда.
Таким был Леонид Аронзон, которого мне не довелось встретить при жизни и который писал такие стихи:
Любовь моя, спи, золотко мое,
вся кожею атласною одета.
Мне кажется, что мы встречались где-то:
мне так знаком сосок твой и белье.
О, как к лицу! о, как тебе! о, как идет!
весь этот день, весь этот Бах, все тело это!
и этот день, и этот Бах, и самолет,
летящий там, летящий здесь, летящий где-то!
И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг
усни, любовь моя, усни, не укрываясь,
и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик ‒ пусть все уснет,
Пусть все уснет, моя живая!
Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг,
отдайся мне во всех садах и падежах!
Сегодня, когда эти стихи доступны всем, они остаются закрытыми для большинства. Закрытым остается то состояние, которое они в себе несут. Стихи эти сродни древневавилонской и, возможно, суфийской поэзии, ее самым возвышенным образцам, однако мало у кого из современников Аронзона имелся орган для их восприятия. Виктор Кривулин писал, что с Аронзоном он постоянно спорил, а Бродский и Волохонский держали его на расстоянии.
Вот что написала о нем через девять лет после его смерти Рита Пуришинская-Аронзон:
«Л. А. умер, когда ему был тридцать один год. Это произошло 13 октября 1970 года под Ташкентом. Мы поехали туда отдохнуть и попутешествовать. Там в горах, в случайной пастушьей сторожке ему попалось это злосчастное охотничье ружье, и он ночью вышел из сторожки и выстрелил в себя... Из своих тридцати одного года двадцать пять он писал стихи, двенадцать лет мы прожили вместе в огромной любви и счастье. Стихи его при жизни не печатали никогда. Настроение было плохое. Но я в жизни не встречала человека более веселого, остроумного и обаятельного, чем он».
Аронзона нельзя целиком объяснить одной лишь гибельностью нашей эпохи или его болезнью и любовью к Рите, но на многое все же эти обстоятельства проливают свет. Известно, что стесненные обстоятельства, в которых оказывается поэт, нередко превращаются в дополнительный стимул, усиливая творческий импульс за счет энергии, созданной для преодоления препятствий. Трудности ограничивают разброс, отсекают побочные пути самовыражения и фокусируют поэта на творчестве. Такой была судьба многих поэтов России, когда они не шли по пути компромиссов и не распродавали себя ради успеха. Распродажей своего таланта занимались практически все известные на Руси поэты. Жить в одиночестве и писать для нескольких друзей не решался никто. Для Аронзона контакты с другими поэтами и вообще с литературной средой были практически невозможны. Даже у значительно более внешне ориентированного Бродского взаимодействие с социумом сначала обернулось судом и ссылкой. У Аронзона не было ни желания, ни возможности обращаться к внешнему миру ‒ жены и двух-трех друзей было достаточно. Его, не обладавшего бойцовскими качествами Бродского, социальная машина просто бы уничтожила. В ней могли существовать только грибки наподобие Кушнера.
Судьба Аронзона отягчалась исключительными личными обстоятельствами. Больной остомиэлитом, только чудом избежавший ампутации ноги, прошедший через несколько тяжелейших операций по очистке кости, едва не умерший от заражения крови Аронзон пишет стихи, какие мог сочинить только небожитель. Поэзия и его любимая жена Рита слились воедино и наполнили его жизнь до предела.
Он читал свои стихи так, как будто на острие этого чтения замерла Вселенная. Сказать, что аронзоновское чтение стихов экстатично, ‒ еще ничего не сказать. Каждое произнесенное им слово насыщенно и самодостаточно, оно похоже на небесный плод, наполненный мякотью, соками, свежестью, силой. Слову не тесно рядом с другими, паузы между ними гулки и глубоки, в его стихах рождается небывалая мужественная и упругая, радостная и певучая гармония.
Я понимаю, кого-то это должно было раздражать, кто-то должен его ненавидеть. Совсем как у пушкинского Сальери, говорившего о Моцарте: да как он посмел! Я же думаю: как он сумел! Я счастлив, что у меня был такой современник ‒ один, перевешивающий длинный список Исаковских, Долматовских, Вознесенских... (см. справочник советских и постсоветских писателей).
Так и не встретив при жизни Аронзона, я встретился с Ритой Пуришинской, когда в 1971 году в Петербурге отмечался год со дня его гибели. Я видел Риту среди друзей Аронзона в зале, где говорились надрывные речи и где стихи поэта в исполнении артистов царапали слух и душу, а потом ‒ на их квартире на Шпалерной. Трудно было остаться равнодушным к ее обаянию. Ее красота и грация глубоко тронули меня и остались во мне навсегда. В те несколько дней я сделал для себя удивительное открытие, которое трудно выразить словами. Я почувствовал, что за лучшими стихами Аронзона стояла она ‒ не как муза и не как его соавтор, а как автор. Будучи ярким поэтом к моменту их встречи с Леней, она отдала ему свою поэтическую судьбу. Отныне он дышал за двоих, и это новое существо называлось его именем.
Не могу не привести его стихотворения, написанного за месяц до смерти, сокрушаясь о том, что так мало сумел о нем сказать:
Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами,
‒ Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.
Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут не надо ничего.
4
Леня Йоффе и Валерий Шленов вошли в нашу жизнь в конце 1960-х. В то время Леня уже был захвачен иудейским эгрегором, но стихи его еще пахли московскими влюбленностями, дружбами, обидами. Была какая-то завершенность и чистота в этом образе люблинского Гавроша, в ритмических перепадах его стихов:
Жить от вечера до вечера,
от стакана до вина.
Мне внутри, видать, помечено –
добредать.
Дни ‒ полосками невсхожими
От сегодня до вчера.
Повзрослевшие прохожие
не играют в чур-чура.
А в отместку ‒ все высокое.
И деревья и луна.
И край неба, морем сотканный,
пеленает пелена...
А на гальке и непринятым
можно камешки бросать
на изрезанные бритвами
паруса.
Однако уже тогда в 1960-е эта видимая простота и ясность постепенно уступает конвульсивному ужасу перед миром, стремлению спрятаться от него как можно глубже и дальше:
Я хочу спрятаться под самый прочный пласт
и сжаться до немыслимых размеров,
чтоб незаметному на кручах этих серых
влачить присутствие, чужих не зная глаз.
В начале 1970-х Леня делает окончательный выбор и эмигрирует в Израиль. В отличие от поэтов-метафизиков Аронзона, Бокштейна и даже Валерия Шленова, которые едва ли знали, где их реальная родина ‒ на Ганге, на Сене, в Гималаях или возле пирамид, Леня Иоффе переживает свою миграцию как главное событие и содержание своего поэтического космоса. Он не способен ни подняться над эгрегориальными преградами, ни разорваться на части между разведенными мирами, и потому он безоговорочно принимает в свое сердце обретенную им новую родину:
Я сберегу ее
спрячу под нежное небо
только б не рушилось
только б не гибло оно
зал полнолуния
будь к ней безогненно нежен
годы те лунные станьте ей неба руном...
И перед Кем-то
кого никогда не узрею
и перед всеми
и перед небесным зонтом ‒
дайте ей долю
а храмы не ваша затея
дайте ей годы
а воздух мы сами возьмем.
Поэзия и судьба оказались одним неразделенным целым, и несвоевременная смерть ‒ ее ожидание и осознание ‒ стала также его судьбой и его стихами.
3 июля 2003 года Леонид Иоффе умер после долгой и тяжелой болезни.
5
С поэзией шутить нельзя. Только что я узнал из Интернета: прошлой ночью (3-го марта 2009 года) в Кельне скончался Алексей Парщиков, с которым меня связывала короткая и радостная дружба. Он был необычайно щедрым человеком, дарил себя друзьям без оглядки. И, мне кажется, со мной он был особенно расточителен.
Мы сошлись с ним в первые годы после моего возвращения из Америки. Не так давно он вернулся из Калифорнии и готовился к переезду в Германию со своими родителями. Алеша видел во мне американца, я же видел в нем русского поэта неведомого мне поколения ‒ открытого, блещущего причудливыми метафорами, неукротимым стремлением ежеминутно радоваться и радовать.
Ни открытости, ни тем более щедрости у поэтов моего поколения не было в помине. Каждый из нас создавал защитный панцирь, отгораживающий его от остального мира, пробиться через который ‒ и вовнутрь, и вовне ‒ было почти невозможно.
Примерно в то же время, то есть в конце 1990-х, Валерий Шленов рассказал мне случай из своей молодости, характерный для нашего с ним поколения. Как-то у Валерия нестерпимо разболелся зуб, и он пошел к районному врачу. Тот распилил ему для пломбы дупло, положил туда ватку с мышьяком и велел Валерию прийти к нему на следующий день. Однако в ту самую ночь с Валерием произошла коренная внутренняя перестройка: всем своим существом он осознал пагубность и тлетворность окружающей его цивилизации и принял безоговорочное решение ни при каких обстоятельствах не допускать с этой цивилизацией никаких контактов. К зубному врачу на другой день Валерий не пошел, и ни разу с той роковой ночи он не посещал никаких врачей. Зуб он, конечно, потерял, как впоследствии много других зубов, но зато он обрел внутреннюю устойчивость, какой могли бы позавидовать многие наши современники.
Алеша Парщиков жил легко и беззаботно, алкоголя он не употреблял вовсе, но в застольях пьянел быстрее своих выпивающих друзей. Предстоящая эмиграция в Германию давала ему дополнительную эйфорию за счет экстерриториальной взвешенности своего положения: живя в Москве, он уже не был москвичом и еще не был европейцем. Гибкий, подвижный, он впитывал дружбу, как губка, и отдавал себя ей целиком, рассказывая о своих поэтических друзьях и о своем опыте Америки, с разных сторон подступаясь к двум тогда его занимавшим темам: мануализму и фантомным болям. Квартира его родителей на улице Правды продавалась и никак не могла продаться, там мы чаще всего и встречались, а другая его квартира на Речном вокзале оставлялась на случаи его приездов в Москву.
Мы с Алешей много гуляли по Москве, особенно в Замоскворечье в районе Третьяковки. Там в Лаврушинском переулке есть писательский дом, и Алеша рассказывал о нем всевозможные истории. Как-то мы с ним вместе навестили Ивана Жданова, только что выписавшегося из больницы. Тот держал себя скованно, но гостям был рад. Парщиковской щедрости и доброжелательства в Жданове не было и в помине, зато было много затаенной желчи и опасливости.
И еще: Алеша был падок до женских ног, на каждом шагу останавливался и восклицал вслед за проходящим фантомом:
‒ Какие ноги!
Постепенно для меня высветилась парщиковская предыстория.
Родился он в 1954 году, окончил на Украине Сельскохозяйственную академию и Московский литинститут им. Горького. Был одним из трех «метареалистов» ‒ вместе со Ждановым и Еременко, ‒ которых державные мифотворцы готовили на роли первых поэтов нового, после Евтушенко, Вознесенкого и Ахмадулиной, поколения. Но рухнул Советский Союз, и все трое повисли в воздухе. Но инерция долго держать их не могла. В результате Еременко спился, Жданов окаменел, а Парщиков начал искать новые возможности левитации. Поступил в Стэнфордский университет аспирантом на кафедру славистики и в 1993 году получил степень магистра. Вернулся в Москву со швейцаркой Мартиной ‒ здесь мы с ним и встретились. Впрочем с Мартиной он не ужился, как ‒ до нее ‒ со своей первой женой Ольгой Свибловой, от которой у него был любимый сын Тимофей. Германия ‒ центр Европы ‒ показалась ему тем самым местом, где, если он не взлетит, то по крайней мере сможет достойно продержаться. С его шармом он бы и в Москве не пропал, но слишком много он вобрал в себя гнилой советчины: с детства его мотало по стране вместе с отцом ‒ военным врачом. Провинция в России может быть очень неприветливой, особенно в отношении ярких впечатлительных детей. Есть души, которые помнят боль, причиненную им страной, и бегут из нее куда подальше. Видно, таким был Алеша, неудавшийся кандидат в первые поэты России. Неужели он поскользнулся об этот несбывшийся шанс?
Я гостил у него в Кельне в 2000 году. Он снимал маленькую квартиру на окраине города. К моему приезду он набил свой холодильник выпивкой и едой и уехал на неделю жить к родителям. Встречались мы с ним в кафе и возле музея Людвига. Я жил его обычной кельнской жизнью, сидел с ним и его друзьями в кафе, ходил в музеи, в гости. Немецкого он не знал ‒ жил русскими и англоязычными интересами. Был бодрым, деловым, но, по сравнению с Москвой, слегка потускневшим. Как и в Москве, избегал алкоголя. Ничто не предвещало беды.
В 2003 Алеша приезжал в Москву, приходил ко мне в гости. И вот тут что-то в его отношении ко мне надломилось: я стал для него нежелательным другом. Мы еще перезванивались, но о его новой женитьбе я узнал уже не от Алеши.
Новую жену Катю Алеша увез с собой в Кельн, где она нежданно-негаданно заболела и проболела полтора года. Потом родила ему сына Матвея. После этого заболел Алеша ‒ надолго и по-серьезному. После операции Алеша потерял голос. Я видел его ошарашенное лицо на амстердамской фотографии незадолго до смерти ‒ остаться безгласным было мучительно для него. Смерть Парщикова завершила нашу прерванную дружбу.
О стихах Парщикова будут писать диссертации, и сказать о них главное я не в состоянии. В этих стихах доминирует внутренний ритм и свой, парщиковский взгляд на каждую вещь и даже отсутствие вещи: «Минус?корабль». Как поэт он умеет залезть в шкуру ежа и под горб горбуна, он наблюдает звездные системы и королевские баталии, знаком со зловредными верблюдами и знает повадки жужелиц. Лучшие его стихи отличает внимание ‒ очень редкое у поэтов ‒ к конвульсиям и изгибам пространства: «Землетрясение в бухте Цэ».
Вот характерное для Парщикова стихотворение «Горбун», в котором видна его приглядливость, экономность и ‒ ранимость:
Ты сплел себе гамак из яда
слежения своей спиной
за перепрятываньем взгляда
одной насмешницы к другой.
А под горбом возможна полость
где небозем на колесе,
где разали б за пятипалость
надменную, но слепы все.
В годы нашей дружбы я посвятил Алеше два стихотворения. Одно из них ‒ «Послание из Дедовская ‒ написано летом 1995 года, когда с группой молодых духовных искателей я снимал дачу в подмосковном Дедовске у милиционера Фреда. Шестое и седьмое двустрочия ‒ это отсылки к сюжетам парщиковских стихотворений, а «Софья Власьевна» ‒ сегодня мало кто это помнит ‒ в годы моей юности было именем-заменителем «Советской власти». Стихотворение навеяно моей любовью к Алеше и ‒ заимствованной мною его поэтикой. Привожу его полностью, так как лучше сказать о Парщикове я едва ли смогу.
Послание из Дедовска
А. П.
Приветствую тебя, поэт тугих двустрочий
из фредовских пространств и ненаследных вотчин,
где облако я арендую эксклюзивно,
которое то деточкой прикинется наивной,
то страшным обернется великаном,
а ближе к вечеру накатится драконом
на будочку для медитаций на краю участка
с большим гвоздем вместо задвижки,
в которую наведываюсь часто,
чтобы Weltschmertz избыть и сбыть природе-матери
интеллектуальные излишки ‒
здесь я калиф сезона, и отсюда
приветствую тебя, певец злопамятных верблюдов,
крутых землетрясений и баталий детских.
Признайся ты опять готов начать разборку
с Карлом Шведским,
в котором пораженье неизменно терпит
твой противник бледный,
а побеждает тот, кто срифмовал последний.
А я тем временем спешу к соседке Анне Яковлевне
за козьим молоком
или с полей общественных горох беру тайком,
иль набиваю туго с кустов хозяйской ягодой живот ‒
да мало ли еще у дачника забот
особенно, когда берется дачник наугад
высиживать мистических цыплят!
Приветствую тебя, поэт лихих смещений,
крутых метафорических сгущений
и свежих симулякровских пустот.
Признайся, ты ли тот,
которому даны редчайшие права
а) озвучивать, б) соединять и в) разделять слова?
На это заявляют многие претензии,
но нам с тобою выданы лицензии.
И сколько там ни мудрствуй, ни хитри ‒
мы знаем то, что знаем изнутри.
Ну, например, что просто пукать рифмою
и бормотать бу-бу
и как непросто заслужить себе судьбу,
что пакостно из кожи лезть
в истаблишментскую обойму
и ‒ как не угодить на бойню.
Меня моя планида с юности хранила,
сначала Софья Власьевна с кнутом за мной ходила,
потом уж дядя Сэм ее сменил ‒
ребенок всем не угодил.
А нынче я ‒ заморский ананас
и ‒ снова не про нас.
Ты ж с молодых ногтей обласкан был судьбою,
но все-таки сумел прикинуться собою
и, окрутив Киклопа, мал и наг,
уплыл Улиссом меж бараньих ног.
Светило нам с тобой одно светило,
сводило было нас и разводило,
на тех же центрифугах нас крутило,
над теми же клоаками мутило,
и вот сошлись мы на излете века ‒
проросший посох и живая ветка,
чтобы, смеясь, сказать ему: смотри ‒
все, что мы знаем, знаем изнутри.
Пока в себе мы дисциллировали токи,
кто миром завладел, холодный и жестокий?
Пока мы гениев в себе растили,
какие птицы крылья распустили?
Когда Лаврушинскими звездами ведомы
гуляли мы, кто третий рядом с нами
ступал средь исторических обломов ‒
Россия? Подсознание? Обломов?
О тусклый век жестянок и наклеек,
век пластиковых бомб и телеканареек,
от твоего навязчивого бреда
я спрятался в малиннике у Фреда,
строчу послания и ем аджап-сандал ‒
не правда ли завиден сей удел? ‒
по облаку угадываю час
и думаю о нем, и думаю о нас.
Алеша, кто мы, где мы и куда мы?
Кто эти господа и эти дамы?
Чьи эти города и эти страны,
зарамленные в мутные экраны?
Я, может быть, одну минуту в жизни стерегу,
в ней видя назначение земное,
когда весь этот бред споткнется о строку,
написанную вами или мною.
6
Поэт Марк Ляндо ‒ замечательный соловей российского поэтического перелеска с голосом, не похожим ни на какой другой. Поэта, более упоенного поэзией, я не встречал. Никто сегодня так самозабвенно не читает свои стихи как Марк. По-другому их читал Аронзон, молясь каждым звуком каждого слова. И Илья Бокштейн закрывал глаза и отдавался звукам, ничего вокруг себя не видя и не слыша. Я знал и других поэтов, которые так себя гипнотизировали. Это заразительно. Для таких людей поэзия ‒ это Солнце, а мир ‒ это тень от вещей. Хорошо это или плохо, я не знаю. Наверное, не очень хорошо, потому что современный поэт своим словом не «останавливает горы» и не «разрушает города», а всего лишь наполняется и иногда наполняет нас звенящим восторгом.
Аква марин
Дальнего мира!..
В бездну ль вперен
Звездных лавин,
Лилий тычинок —
Ты окрылен
Высью глубин
И ‒ не суглинок.
Черной дырой
Смерч мировой
Вымчи до брега
Новых времен
В света зон
Парус ковчега!..
С 1950-х годов Марк стоит на посту, встречая и провожая поколения поэтов, привечая их в своем томилинском доме. Кто только там не побывал: Губанов, Боков, Иодковский, Андреева, Берников... Любое застолье для него ‒ это повод для звучащих стихов, да и вообще весь мир ‒ средство для поэзии. Друзья по поэтическому слову уже давно разлетелись по всему свету, а также за его пределы. Среди них Марк Волошин, Омар Хайям и Басе.
7
Напоследок хочется вернуться к Валерию Шленову ‒ тому самому, который в молодости из принципиальных соображений потерял зуб, а заодно раз и навсегда покончил с современной профанной цивилизацией. Тогда же он принял твердое решение никогда не публиковать свои стихи. Изредка он читал друзьям несколько строчек, но на бумаге после 1970-х я их не видел. Этому решению Валерий не изменил до настоящего времени. Стихи Валерия, яркие и умные, для читателя не существуют. Поэзия стала его частным делом.
В 1970-х мы с ним были друзьями и возобновили нашу дружбу после моего возвращения из Америки в середине 1990-х. Однако вскоре жена Валерия Серафима, рьяная христианка, пресекла нашу дружбу, почувствовав несовместимость ее толкования христианства с нашими идеями. Валерий полностью принял устав Серафимы и, поступив церковным чиновником в Отдел катехизации Московской Патриархии, ограничил свою жизнь церковным служением и делами церкви.
Здоровья тебе, друг Валерий.
Москва, 2009 г.
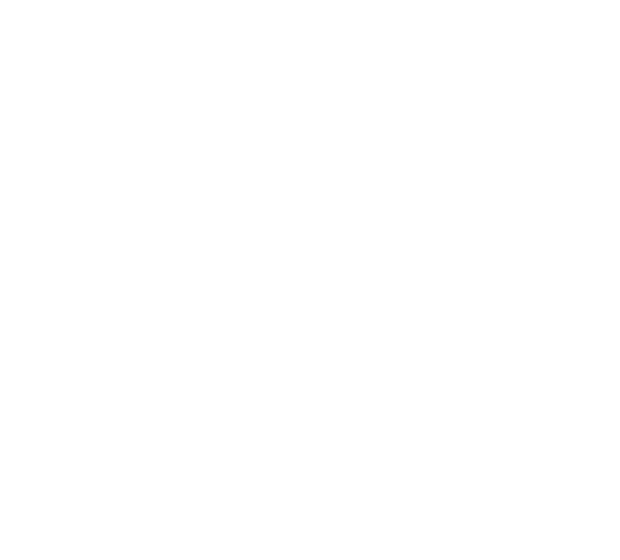
Книга о друзьях и спутниках жизни. 2010 г. Тираж распродан.
Год издания: 2010
Страниц: 356
Формат: 21.5 x 14.5 x 1.5 см
Обложка: мягкая
ISBN: 978-5-91078-117-1