АРКАДИЙ РОВНЕР
Учитель и ученик
Отрывок из книги
«Гурджиев и Успенский»
«Гурджиев и Успенский»
Встреча ученика с учителем
В ноябре 1914 года известный русский путешественник, писатель и исследователь «чудесного» Петр Демьянович Успенский вернулся в Петербург после длительного путешествия по Египту, Цейлону и Индии. В Европе и России в это время уже шла война, которая оказалась роковой и для Европы, и для России. Для России она закончилась катастрофой — большевистской революцией 1917 года, а в Европе началась агония продолжительностью в четверть века, завершившаяся предсказанным ей Освальдом Шпенглером закатом. После Второй мировой войны цивилизации, именовавшейся Западной, больше не существовало, а на бывшей ее территории появилась иная примитивная формация, сохранившая от прежней лишь название.
В 1914 году Успенскому шел 37-й год. Он уже совершил несколько значительных путешествий на Восток в поисках таинственных «школ», несущих в себе посвятительное знание древних, и опубликовал с полдюжины книг, предлагавших ключи к загадкам мира и разъясняющих феномены четвертого измерения, оккультизма, йоги и сверхчеловека. В Петербурге - теперь он назывался Петроградом - и в Москве он начал читать публичные лекции о своих путешествиях по Индии под названием «В поисках чудесного» и «Проблема смерти», которые собирали тысячи людей. Ему звонили, его забрасывали письмами восторженные поклонники его таланта, так что ему уже казалось, что «на основе "поисков чудесного" можно объединить немало людей, не способных более разделять общепринятые формы лжи и жить во лжи».
Однако успех не обманывал его самого. Он знал, как он сам далек от внутреннего равновесия и ясности, которые могли бы свидетельствовать о том, что он на правильном пути и что у него вообще есть путь. Он знал, что его путешествия на Восток «в поисках чудесного» не дали никакого результата. Для него самого не было ясно, что он искал. «Я не мог выразить этого ясно, — пишет Успенский в своей посмертно изданной книге под названием «В поисках чудесного», — я воображал, что можно установить контакт со школами далекого прошлого, со школами Пифагора, Египта, строителей Нотр-Дама и так далее». Школы, с которыми ему удалось прийти в соприкосновение во время его путешествий, Успенский разделил на ряд групп. Школы религиозного или полурелигиозного характера не привлекли его потому, что такого рода путь, если бы он его искал, он мог найти и в России. Школы морально-религиозного типа с налетом аскетизма, как, например, школы последователей Рамакришны, по мнению Успенского, не обладали истинным знанием. Школы йоги и другие, основанные на обретении состояния транса, также не вызывали у него доверия: по его мнению, они были основаны на самообмане или на том, что православные мистики называют «искушением», или «прелестью». Наконец, были школы, которые обещали много, но и очень многого требовали. Войти в такую школу означало бы для Успенского отказаться от возвращения в Европу и от собственных планов и идей. Успенский не был готов пойти на такой радикальный шаг и искал школы более рационального типа, веря, что человек имеет право — хотя бы до определенной степени — знать, куда он идет.
Успенский привычно окунулся в газетную работу и публичную суету. Однажды в одной из московских газет он обнаружил заметку о сценарии балета «Борьба магов», который, как утверждала газета, принадлежал некому «индийцу». Действие балета происходит в Индии и создает картину восточной магии, чудеса факиров, священные пляски и т. п. Сочтя заметку любопытной, Успенский перепечатал ее в своей газете и вскоре после этого уехал в Петроград.
После Пасхи 1915 года Успенский снова приехал в Москву, где встретил своего приятеля московского художника и скульптора Дмитрия Меркулова, который рассказал ему о таинственном кавказском греке и о его оккультной группе. Успенский не был воодушевлен этим рассказом, он был под дурным впечатлением от «оккультизма» теософов, и согласился на встречу с греком только после настойчивых рекомендаций Меркулова. По мнению Джеймса Вебба, Гурджиев появился в Петербурге в 1910—1911 годах и прожил там до 1914 года, а в 1914 году переехал в Москву. Более вероятно, что он приехал в Россию между 1911 и 1913 годами и заметил Успенского еще в 1912 году.
Позже Гурджиев рассказал Успенскому, что, когда газеты сообщили, что Успенский отправился на Восток «в поисках чудесного», он велел своим ученикам прочитать книги Успенского и определить, что он может найти на Востоке, что они и сделали. Так он «вычислил» Успенского еще задолго до знакомства с ним. Впоследствии Успенский узнал, что Гурджиев внимательно изучал свое окружение, находил и привлекал людей, нужных ему для его целей. Так он привлек к себе Томаса де Гартмана, Стерневала и других. Через Меркулова Гурджиев встретил музыканта Владимира Похла. Похл в свою очередь представил его Успенскому.
Первая встреча Гурджиева и Успенского в описании Успенского вошла в классику эзотерики ХХ-го века. Встретились два самых значительных персонажа одной из интереснейших драм эпохи. С этой встречи Гурджиев, собственно, и вошел в историю. Успенский так описывает эту встречу:
«Мы вошли в небольшое кафе на шумной, хотя и не центральной улице. Я увидел человека восточного типа, уже немолодого, с черными усами и пронзительными глазами; более всего он удивил меня тем, что производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и этой атмосфере. Я все еще был полон впечатлений Востока; и этот человек с лицом индийского раджи или арабского шейха, которого я сразу представил себе в белом бурнусе или в тюрбане с золотым шитьем, сидел здесь, в этом крохотном кафе, где встречались мелкие дельцы и агенты-комиссионеры. В своем черном пальто с бархатным воротником и черном котелке, он производил странное, неожиданное и почти пугающее впечатление плохо переодетого человека, вид которого смущал вас, потому что вы понимаете, что он — нет тот, за которого себя выдает, а между тем вам приходится общаться с ним и вести себя так, как если бы вы это не замечали. По-русски он говорил неправильно, с сильным кавказским акцентом; и самый этот акцент, с которым мы привыкли связывать все, что угодно, кроме философских идей, еще больше усиливал необычность и неожиданность впечатления». Они беседовали о путешествиях Успенского и о наркотиках — вопросах, интересовавших Успенского. Затем они вместе отправились на собрание группы последователей Гурджиева. Гурджиев объяснил Успенскому, что он тратит много денег на квартиру, куда к нему приходят известные «профессора» и «артисты».
Квартира, куда они приехали, оказалась казенной едва меблированной квартирой школьного учителя, а люди, бывшие там, — мало интересными: три-четыре молодых человека и две девушки, похожие на учительниц. Ему прочитали рассказ «Проблески истины», но из этого рассказа он мало узнал о самой «работе» группы. Успенского заинтересовал тот факт, что рассказ начинался с истории о том, как та же заметка о балете «Борьба магов», на которую ранее обратил внимание Успенский, попала в руки автора этого рассказа. Сам рассказ не понравился Успенскому, его явно писал человек, не имевший никакого литературного опыта. В дальнейшем разговоре Гурджиев сказал, что он занимается «химией», а один из молодых людей говорил невнятно о «работе над собой». И хотя на этой встрече не было известных «профессоров» и «артистов» и Гурджиев не назвал «известных танцоров», которые будут танцевать в его балете, Успенский был под большим впечатлением от этого вечера.
В 1914 году Успенскому шел 37-й год. Он уже совершил несколько значительных путешествий на Восток в поисках таинственных «школ», несущих в себе посвятительное знание древних, и опубликовал с полдюжины книг, предлагавших ключи к загадкам мира и разъясняющих феномены четвертого измерения, оккультизма, йоги и сверхчеловека. В Петербурге - теперь он назывался Петроградом - и в Москве он начал читать публичные лекции о своих путешествиях по Индии под названием «В поисках чудесного» и «Проблема смерти», которые собирали тысячи людей. Ему звонили, его забрасывали письмами восторженные поклонники его таланта, так что ему уже казалось, что «на основе "поисков чудесного" можно объединить немало людей, не способных более разделять общепринятые формы лжи и жить во лжи».
Однако успех не обманывал его самого. Он знал, как он сам далек от внутреннего равновесия и ясности, которые могли бы свидетельствовать о том, что он на правильном пути и что у него вообще есть путь. Он знал, что его путешествия на Восток «в поисках чудесного» не дали никакого результата. Для него самого не было ясно, что он искал. «Я не мог выразить этого ясно, — пишет Успенский в своей посмертно изданной книге под названием «В поисках чудесного», — я воображал, что можно установить контакт со школами далекого прошлого, со школами Пифагора, Египта, строителей Нотр-Дама и так далее». Школы, с которыми ему удалось прийти в соприкосновение во время его путешествий, Успенский разделил на ряд групп. Школы религиозного или полурелигиозного характера не привлекли его потому, что такого рода путь, если бы он его искал, он мог найти и в России. Школы морально-религиозного типа с налетом аскетизма, как, например, школы последователей Рамакришны, по мнению Успенского, не обладали истинным знанием. Школы йоги и другие, основанные на обретении состояния транса, также не вызывали у него доверия: по его мнению, они были основаны на самообмане или на том, что православные мистики называют «искушением», или «прелестью». Наконец, были школы, которые обещали много, но и очень многого требовали. Войти в такую школу означало бы для Успенского отказаться от возвращения в Европу и от собственных планов и идей. Успенский не был готов пойти на такой радикальный шаг и искал школы более рационального типа, веря, что человек имеет право — хотя бы до определенной степени — знать, куда он идет.
Успенский привычно окунулся в газетную работу и публичную суету. Однажды в одной из московских газет он обнаружил заметку о сценарии балета «Борьба магов», который, как утверждала газета, принадлежал некому «индийцу». Действие балета происходит в Индии и создает картину восточной магии, чудеса факиров, священные пляски и т. п. Сочтя заметку любопытной, Успенский перепечатал ее в своей газете и вскоре после этого уехал в Петроград.
После Пасхи 1915 года Успенский снова приехал в Москву, где встретил своего приятеля московского художника и скульптора Дмитрия Меркулова, который рассказал ему о таинственном кавказском греке и о его оккультной группе. Успенский не был воодушевлен этим рассказом, он был под дурным впечатлением от «оккультизма» теософов, и согласился на встречу с греком только после настойчивых рекомендаций Меркулова. По мнению Джеймса Вебба, Гурджиев появился в Петербурге в 1910—1911 годах и прожил там до 1914 года, а в 1914 году переехал в Москву. Более вероятно, что он приехал в Россию между 1911 и 1913 годами и заметил Успенского еще в 1912 году.
Позже Гурджиев рассказал Успенскому, что, когда газеты сообщили, что Успенский отправился на Восток «в поисках чудесного», он велел своим ученикам прочитать книги Успенского и определить, что он может найти на Востоке, что они и сделали. Так он «вычислил» Успенского еще задолго до знакомства с ним. Впоследствии Успенский узнал, что Гурджиев внимательно изучал свое окружение, находил и привлекал людей, нужных ему для его целей. Так он привлек к себе Томаса де Гартмана, Стерневала и других. Через Меркулова Гурджиев встретил музыканта Владимира Похла. Похл в свою очередь представил его Успенскому.
Первая встреча Гурджиева и Успенского в описании Успенского вошла в классику эзотерики ХХ-го века. Встретились два самых значительных персонажа одной из интереснейших драм эпохи. С этой встречи Гурджиев, собственно, и вошел в историю. Успенский так описывает эту встречу:
«Мы вошли в небольшое кафе на шумной, хотя и не центральной улице. Я увидел человека восточного типа, уже немолодого, с черными усами и пронзительными глазами; более всего он удивил меня тем, что производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и этой атмосфере. Я все еще был полон впечатлений Востока; и этот человек с лицом индийского раджи или арабского шейха, которого я сразу представил себе в белом бурнусе или в тюрбане с золотым шитьем, сидел здесь, в этом крохотном кафе, где встречались мелкие дельцы и агенты-комиссионеры. В своем черном пальто с бархатным воротником и черном котелке, он производил странное, неожиданное и почти пугающее впечатление плохо переодетого человека, вид которого смущал вас, потому что вы понимаете, что он — нет тот, за которого себя выдает, а между тем вам приходится общаться с ним и вести себя так, как если бы вы это не замечали. По-русски он говорил неправильно, с сильным кавказским акцентом; и самый этот акцент, с которым мы привыкли связывать все, что угодно, кроме философских идей, еще больше усиливал необычность и неожиданность впечатления». Они беседовали о путешествиях Успенского и о наркотиках — вопросах, интересовавших Успенского. Затем они вместе отправились на собрание группы последователей Гурджиева. Гурджиев объяснил Успенскому, что он тратит много денег на квартиру, куда к нему приходят известные «профессора» и «артисты».
Квартира, куда они приехали, оказалась казенной едва меблированной квартирой школьного учителя, а люди, бывшие там, — мало интересными: три-четыре молодых человека и две девушки, похожие на учительниц. Ему прочитали рассказ «Проблески истины», но из этого рассказа он мало узнал о самой «работе» группы. Успенского заинтересовал тот факт, что рассказ начинался с истории о том, как та же заметка о балете «Борьба магов», на которую ранее обратил внимание Успенский, попала в руки автора этого рассказа. Сам рассказ не понравился Успенскому, его явно писал человек, не имевший никакого литературного опыта. В дальнейшем разговоре Гурджиев сказал, что он занимается «химией», а один из молодых людей говорил невнятно о «работе над собой». И хотя на этой встрече не было известных «профессоров» и «артистов» и Гурджиев не назвал «известных танцоров», которые будут танцевать в его балете, Успенский был под большим впечатлением от этого вечера.
Московские и петербургские группы
Они продолжали встречаться в том же кафе и вести различные разговоры. Однажды зашел разговор о деньгах. Гурджиев сказал, что он берет со своих учеников «за работу» тысячу рублей в год. Успенский отметил, что это слишком большая сумма. «Я не могу тратить на "работу" свои собственные средства, — возразил Гурджиев и добавил, что если человек не может заработать эту сумму, значит он слаб или вял и не годится для работы. Знание не ценят, если за него не платят.
Через неделю Успенский вернулся в Петроград по делам, связанным с изданием и переизданием его книг. Гурджиев сообщил ему, что иногда бывает в Петрограде. Успенский погрузился в свою работу, успокаивая себя тем, что он всегда сможет поехать в Москву и увидеть Гурджиева. Осенью того же 1915 года он услышал в телефонной трубке голос Гурджиева, который приехал в Петроград. Он встретился с ним в Филипповском кафе, и на эту встречу Успенский привел нескольких своих знакомых. С этого времени составилась так называемая «петербургская группа».
Некоторые интересные детали о встречах тех лет с Гурджиевым можно найти и в воспоминаниях Анны Бутковской, которая встретила Успенского в Теософском обществе еще до его экспедиции на Цейлон, и после его возвращения стала одной из самых активных участниц «петербургской группы». Она вместе с Успенским и Волынским бродила по ночному Петрограду, когда Успенский рассуждал на тему «поисков чудесного», а днем они встречались в Филипповском кафе на Невском недалеко от квартиры Успенского. Успенский познакомил ее с Гурджиевым, который, по его мнению, мог привести их обоих туда, куда Успенский не смог прийти сам даже после своих путешествий по Индии. Описание первой встречи Анны Бутковской с Гурджиевым в Филипповском кафе на Невском, куда ее привел Успенский, вторит описанию Успенского:
«Когда я вошла в кафе, я увидела человека за столиком в углу в обычном черном пальто и высокой астраханской шапке, которую русские носят зимой. В его изящных сильных чертах и во взгляде, который пронизывал вас (хотя он не нес в себе ничего неприятного), можно было различить его греческое происхождение. У него была овальной формы голова, черные глаза, оливковая кожа и черные усы. Его манеры были тихими и спокойными, и он разговаривал без жестикуляции. Просто сидеть рядом с ним было приятно. Хотя русский не был его родным языком, он говорил на нем бегло, хотя в несколько странной манере, очень точно и образно. Иногда он говорил «ленивым» голосом, и вы чувствовали, что каждая фраза была составлена тщательно и специально для данного случая, не как готовые фразы, которыми мы пользуемся в разговорах... У него был дар экспрессивного сочетания слов. Я сидела здесь и чувствовала, что я нахожусь по крайней мере в присутствии Учителя».
Вокруг Успенского, Анны Бутковской и их учителя начала формироваться группа, встречавшаяся в Филипповском кафе. Именно Успенский создал то, что стало «петербургской группой» Гурджиева. В 1937 году он говорил своим английским ученикам, что тогда в Петербурге ему было абсолютно ясно, что он должен привлекать людей к Гурджиеву. Эта группа могла существовать благодаря тому, что к нему как автору и журналисту стекались люди и через него приходили к Гурджиеву. Гурджиев, в свою очередь, относился к Успенскому как к своему помощнику и главному после себя человеку. Успенский и Анна Бутковская считались «любимыми учениками» Гурджиева. Работа этой группы в последующие 18 месяцев описана Успенским в его книге «В поисках чудесного».
В эту группу входили инженер Антон Марковский, другой инженер Андрей и финн доктор Леонид Стерневал, специалист по нервным болезням. Доктор Стерневал интересовался гипнозом и на этой почве познакомился с Гурджиевым. Он проявлял по отношению к Гурджиеву фантастическую, почти рабскую преданность. Доктор Стерневал, в свою очередь, так же, как и Успенский привел к Гурджиеву многих своих друзей. Шестым посетителем Филипповской булочной и членом так называемого внутреннего круга Гурджиева был пожилой пациент д-ра Стерневала. Встречи также имели место в доме доктора Стерневала, на квартирах его пациентов, иногда на финской даче одной очень состоятельной дамы г-жи Максимович. К январю 1916 года в «петербургскую группу» собралось уже около 40 человек, и Гурджиев начал регулярно приезжать в Петроград, иногда вместе с учениками из своей московской группы.
Среди учеников Гурджиева были две загадочные фигуры, ставшие позже известными на Западе как «мадам Успенская» и «мадам Островская». О Софье Григорьевне Успенской известно очень немного. Она родилась в 1874 году, на четыре года раньше Успенского, и до Успенского была замужем дважды, первый раз за 16-летним студентом, второй раз — за горным инженером, с которым она много ездила по России. От второго брака у нее был рано умерший сын и взрослая дочь, которая сделала Успенского «дедушкой» в 1919 году. Успенский привел ее к Гурджиеву, и она быстро вошла в «работу» и сошлась с Успенским, хотя вряд ли они были официально зарегистрированы как муж и жена. Ходили слухи, что Гурджиев отговаривал Успенского от этого брака, двусмысленное положение этой женщины рядом с Успенским создавало немало напряжений в годы Гражданской войны и эмиграции. Ситуация эта была хорошо известна среди его и ее друзей в России, на Западе же их отношения с самого начала принимались за то, чем они на самом деле и были: деловым партнерством.
Другой таинственной фигурой была женщина, известная как жена Гурджиева, мадам Островская. Беннетт утверждает, что она была знатной польской дамой из императорского двора, в то время как де Гартман пишет, что прошлое ее было горьким. Не исключено, что некоторые ее черты легли в основу образа мадам Витвицкой из гурджиевской книги «Встречи с замечательными людьми». Сама она старалась казаться обычной ученицей, а не женой Гурджиева, однако ее привилегированное положение в «работе» выдавало ее истинную роль. Позже она занимала ведущую роль в гурджиевских «движениях» и танцах.
Успенский рассказывает, что, работая со своими московскими и петербургскими последователями, Гурджиев создавал множество трудностей, которые казались абсолютно ненужными и непонятными. Он любил назначать встречи с учениками без предупреждений в тот же день, и некоторые люди не успевали перестроиться и приехать, до других было невозможно дозвониться. Гурджиев также часто менял свои планы, оставался в городе, хотя собирался уезжать, и наоборот. Если кто-то оказывался занят, он пожинал плоды своей занятости, лишая себя участия в интересных и важных беседах. Но Гурджиев не стремился облегчить людям знакомство с его идеями. Наоборот, он считал, что только путем преодоления трудностей можно научиться ценить идеи.
Гурджиев излагал свои идеи понемногу, будто бы оберегая их. Предлагая какую-то новую тему, он обычно давал сначала лишь самые общие понятия, часто скрывая самое существенное. Во второй раз он раскрывал больше, в третий — еще больше. Объяснения занимали обычно довольно много времени. Он любил щедрые многолюдные застолья, хотя многие замечали, что сам он ест очень мало. Он охотно играл различные роли, особенно с посторонними, например роль торговца коврами или нефтяного магната из Баку, но играл их так, что большинство учеников видело, что это «игра». Это никогда не было игрой в «святость» или в «обладание чудесными силами», но эта игра вызывала у присутствующих впечатление силы и привлекала своим юмором. И в то же время ученики сознавали, что сам Гурджиев остается закрытым от них и что они его, возможно, никогда не увидят.
Известен случай, рассказанный Успенским Оражу: Успенский организовал выступление Гурджиева в Петербургском географическом обществе. Темой выступления была пустыня Гоби. Гурджиев произвел на собравшихся географов большое впечатление серьезным и содержательным началом своей лекции. Однако далее он начал говорить о низине посреди пустыни с такими крутыми склонами, что никто не мог в нее спуститься. Эта низина была вся усыпана бриллиантами, и местные жители научили ястребов приносить им куски сырого мяса, которые они сбрасывали туда и к которым прилипали драгоценные камни. Аудитория была шокирована и разошлась с возмущением. Некоторые из «академиков» узнали историю из «1001 ночи», которую Гурджиев переиначил и вставил в свою лекцию, очевидно, чтобы посмеяться над ними. Гурджиев объяснил Успенскому свое поведение следующим образом: видя, что присутствующие не воспринимают важные сведения, которые он им сообщил, он решил пробудить в ней недоверие ко всему сообщению. Был ли это урок для «академиков» или же для «академика» Успенского, высоко ставившего свое научное ремесло?
Несколько слов о книге Успенского «В поисках чудесного». Успенский называл эту книгу «Фрагментами неизвестного учения» и не отдавал ее издателям при жизни. Когда после смерти Успенского книга была напечатана, это название было использовано в качестве подзаголовка. Вебб называет эту книгу исключительно искренней и исключительно обманчивой. Перед самой своей смертью по настоянию близких ему людей Гурджиев прочитал эту книгу и одобрил ее содержание. Книга, действительно, воспроизводит события 1915—1918 гг., какими их видел Успенский, и дает аккуратный образ Гурджиева этого времени. До сих пор она является наиболее полным, систематическим и глубоким изложением учения Гурджиева, как оно было представлено последним перед его российскими последователями.
Книга была впервые опубликована в 1950 году, т.е. через три года после смерти Успенского и через год после смерти Гурджиева. Она говорит столько же об Успенском, сколько о Гурджиеве. Книга эта дает прекрасный пример самонаблюдения, которое является одним из «китов» гурджиевского метода «работы». Она показывает восточного мистика глазами русского интеллектуала и русского интеллектуала глазами восточного мистика. Тон лекций и бесед Гурджиева характерен для российского периода его деятельности, но не типичен для Гурджиева других периодов. Гурджиев использовал особенности контекста, места и времени для наиболее продуктивной передачи слушателям своих идей. Он умел, отталкиваясь от конкретной ситуации и от конкретных вопросов, поворачивать учеников к важным темам, ставить их лицом к лицу перед самими собой. Так, воспоминания Успенского о машинности Лондона навели разговор на тему человека-машины, а вопрос одного из учеников Л. Л. Заменгофа об эсперанто обернулся разговором о трех универсальных языках, отражающих уровень понимания духовного искателя. И это в свою очередь вело к проблеме отношения между бытием и знанием. Так он поступал с каждым учеником, и с Успенским в первую очередь.
Вообще гурджиевское обучение происходило по странной и непривычной схеме. Как мы знаем, Гурджиев раскрывал свои идеи очень скупо и в обрывочном виде, так что ученикам приходилось многое додумывать самим и задавать новые и новые вопросы. К пониманию приходили в результате трудной работы и серьезных собственных усилий. «Система» Гурджиева состояла из космологии, психологии, теории бытия и знания, теории искусства, но все это вместе производило впечатление чего-то незаконченного, составленного из «фрагментов». Шаг за шагом члены петербургской группы подходили к тому, что Гурджиев называл «пропастью, которая не может быть никогда преодолена человеческим разумом».
1915—1917 годы стали для Успенского периодом интенсивного вхождения в логику «системы», преодоления установочных и психологических стереотипов — тем, что Гурджиев называл емким словом «работа над собой», или просто «работа». Реализация новых идей оказалась связанной с новой терминологией, необходимой для выражения психологического и космологического учения, сообщенного ему Гурджиевым.
Идеи Гурджиева оказали мощное воздействие на слушателей благодаря необычайной способности Гурджиева соотносить их с обычными понятиями и теориями и давать этим теориям новый, часто значительно более углубленный и парадоксальный смысл. В этом смысле интересна трансформация известной йоговской концепции «кундалини», которая на Востоке означает латентную энергию духовного пробуждения. У Гурджиева в петербургский период «кундалини» несет совершенно иную смысловую нагрузку, она означает силу воображения, фантазии, которая удерживает человека в состоянии сна и препятствует его пробуждению. Позже в «Рассказах Вельзевула своему внуку» эта идея связывается с концепцией «буферов». «Кундабуфер» означает гипнотическую силу, которая держит человечество в глубоком сне.
Не менее интересно обращение Гурджиевым материализма против материализма. Этот метод был адресован людям с позитивистским, материалистическим складом ума. Благодаря этому методу эзотерические концепции «одевались» в понятия позитивной науки и «действовали» в рамках саентистской логики, в дальнейшем выводя таких людей к идеям иного порядка. Примером может служить использование Гурджиевым названий химических элементов «углерод», «кислород» и «азот» для обозначения активной, пассивной и нейтральной сил, комбинация которых производила материю более высокого порядка — «водород».
Далее, гурджиевское учение поражало Успенского и его друзей своим неожиданным музыкальным аспектом. Вселенная оказывалась построенной по законам музыкальной гармонии, несла в себе сложную гармоническую идею, которая странным образом перекликалась с ее «химическим» аспектом. Успенский, увлекшись этими аспектами учения, составил сложную схему корреляции «химических» элементов и музыкальных нот, в которой только концептуальная основа принадлежала Гурджиеву, а все детали и расчеты — самому Успенскому.
Вообще учение, принесенное Гурджиевым, отличалось от всех известных в те годы петербургским интеллектуалам оккультных учений, и прежде всего от теософского учения, отсутствием в нем вымученной патетики, высоких фраз и грандиозных заявок. Оно как нельзя более отвечало ожиданиям поколения молодых русских современников мировой войны, смертельно уставших от громких слов и умозрительных теорий — на фоне продолжавшейся и усугублявшейся европейской бойни, — и стремившихся к конкретным духовным шагам и конкретному практическому опыту. В языке, которым пользовался Гурджиев, была особая новая простота и алгебраическая условность, освобождавшая от прямой ассоциативной зависимости от психологически и культурно перегруженных образов, как обобщенный алгебраический символ, например «х», «у» или «z», освобождает нас от конкретики чисел, легко подставляемых вместо него. Многозначительные и вместе с тем содержательно бедные теософские понятия, часто заимствованные из индуистско-буддийского или саентистского арсенала, такие, как «астрал», «девакан» или «эволюция», были заменены общими и свободными от избитых эзотерических ассоциаций идеями (например, учение о четырех путях и трех центрах, о законе случайности, луче творения и т.п.).
Успенский определял идеи Гурджиева как «полностью самодостаточные... и до настоящего времени совершенно неизвестные». Сам Гурджиев относил их к «эзотерическому христианству», хотя обычно представлял их как «четвертый путь», или «путь хитрого человека». Хитрый человек пользуется любой возможностью оставаться духовно бодрствующим. Хитрым, т. е. предприимчивым, отважным человеком был сам Гурджиев, которого его последователи часто сравнивали с хитроумным Одиссеем, ушедшим из всех ловушек и достигшим в конце концов своей цели. Постепенно главным содержанием деятельности каждого участника группы стала «работа над собой», заключавшаяся в «самонаблюдении» и «самовоспоминании».
Между тем отношения между Гурджиевым и его петербургскими и московскими последователями становились все более тесными, и влияние на них Гурджиева усиливалось. Успенский теперь ясно осознавал Гурджиева своим учителем и понимал, что он, наконец, нашел то, поисками чего были наполнены многие годы его жизни, — учителя и «школу». «Я прекрасно понимал, — пишет Успенский о своем отношении того времени к Гурджиеву и его учению, — что должно пройти много времени, прежде чем я смогу правильно представить всю систему в целом... и вот теперь, когда я начинал понимать, какой огромной ценностью обладают его (Гурджиева — А. Р.) идеи, меня буквально приводила в ужас мысль о том, что я легко мог пройти мимо них, или вообще ничего не узнать о существовании Гурджиева, или потерять его из виду...». Успенский вспоминает эпизод, когда он пригласил в группу своего старого приятеля. Приятель пришел, проговорил три часа, в то время как Гурджиев и все присутствующие молчали. Когда он ушел, вполне довольный интересным разговором, Гурджиев сказал: «Возможно, это был единственный случай в его жизни, когда он мог узнать истину, а он проговорил три часа». Незаметно для себя Успенский глубоко вошел в созданное Гурджиевым пространство и стал частью гурджиевского сценария. Однако Гурджиев оставался для него и его друзей по-прежнему неуловимым и требовал от них методичного и серьезного вхождения в ту новую область, в которую он их вводил, добиваясь от них сознательных усилий в заданном направлении.
В августе 1916 года во время совместного пребывания Гурджиева и группы его учеников на финской даче, принадлежавшей мадам Максимович, Успенский испытал «чудесное» переживание, которое окончательно убедило его в том, что он на правильном пути, и, возможно, окончательно определило его духовную зависимость от Гурджиева. В течение полутора лет со дня их первой встречи весной 1915 года Успенский не просто регулярно знакомился с идеями Гурджиева, встречаясь с ним и с другими его учениками практически ежедневно, но с полной самоотдачей включился в систему психологических упражнений, предложенных Гурджиевым и связанных с новым методом «самонаблюдения» и «самовоспоминания». Эти методы Успенский сочетал с традиционными опытами ночного бдения, поста и православной «умной молитвы». Он привык и к непредсказуемой спонтанной манере поведения Гурджиева, к частым переменам его настроения, к его постоянной «игре» в самые разные роли. На даче, куда Успенский приехал в очень уязвимом хрупком состоянии, Гурджиев первоначально повел себя по отношению к нему и к другим прибывшим туда ученикам строго и неприветливо, однако позже предложил Успенскому, Стерневалу и А. А. Захарову участвовать в демонстрации некоторых «движений», из тех, которым он начал обучать своих учеников лишь в 20-е годы во Франции. Успенский утверждает, что Гурджиев никогда не гипнотизировал его ни прежде, ни в тот раз, но он начал «слышать» мысли Гурджиева.
По описанию Успенского, сначала это были общие инструкции, которые Гурджиев громко давал трем своим ученикам. После этого Успенский начал «слышать» голос Гурджиева в области груди и, к удивлению своих коллег, стал отвечать на них вслух. Этот «разговор» произвел на Успенского сильнейшее впечатление. Не сообщая деталей разговора, Успенский пишет, что разговор касался каких-то требований Гурджиева, который ставил его перед выбором: принять эти требования или уйти и оставить «работу». После этого «разговора» Успенский ушел в лес, где провел некоторое время, погруженный во внутреннюю борьбу, и вернулся, полностью согласный с обвинениями Гурджиева, связанными с его слабостями и непониманием ситуации.
Ночью телепатическое общение между учеником и учителем продолжилось. В последующие три дня это явление не прекращалось и даже стало утомлять Успенского. Когда он заговорил об этом с Гурджиевым, тот заметил ему, что это состояние означает «пробуждение», что совпадало с ощущениями самого Успенского. Явление это продолжалось еще несколько недель. Во время его поездки в поезде и далее в Петрограде телепатическая связь временами возобновлялась, а временами исчезала. Гуляя по Петрограду, Успенский с пугающей остротой отмечал, что все прохожие вокруг него спали. Он вдруг увидел себя в царстве спящих и воспринял это ощущение как еще один знак пробужденности.
В 1916 году в круг последователей Гурджиева вошел новый яркий человек, композитор Томас де Гартман, русский аристократ и внучатый племянник Эдуарда фон Гартмана, автора знаменитой «Философии бессознательного». Его жена Ольга де Гартман была дочерью губернатора. Он родился в 1886 г. и уже в 1906 г. его балет «Красавица и чудовище» был с успехом исполнен в Петербурге, а через год другой его балет «Розовый цветок» с Павловой, Фокиным и Нежинским в главных ролях был поставлен в Оперном театре и исполнялся в присутствии царя Николая II.
С 1908 по 1911 гг. де Гартман жил в Мюнхене, где изучал дирижирование. Он также был увлечен «поиском чудесного» и так же, как Успенский, не был удовлетворен результатами своих поисков. В Мюнхене он был в тесной связи с кругом Кандинского, который в то время серьезно увлекался антропософией. В Петербурге он дружил со Скрябиным и брал уроки игры на фортепиано у теософки Анны Есиповой.
Де Гартманы жили в Царском Селе, когда в декабре 1916 г. один из учеников Гурджиева, Захаров, познакомил его со своим учителем. Де Гартман был, вероятно, заинтригован таинственностью приготовлений к встрече и требованием высокой платы за нее, но когда в сопровождении Захарова он пришел в угловое кафе на Невском, обычно посещаемое проститутками, он был, очевидно, крайне растерян. Гурджиев, явившийся на встречу с доктором Стерневалем и Меркуровым, оглянулся вокруг и, желая еще больше сконфузить аристократа, громко заметил: «Обычно здесь бывает больше проституток...» Как и Успенский, де Гартман увлекся Гурджиевым против своей воли. Когда он предложил Гурджиеву 1000 рублей за обучение, деньги не были приняты последним, который сказал ему, что придет время, когда де Гартман будет рад предложить ему все, что у него есть.
Между тем война входила в свою последнюю предреволюционную стадию. Даже Успенский провел 4 месяца на военных сборах и был отпущен по причине плохого зрения. Томас де Гартман был мобилизован в армию, а Гурджиев в феврале 1917 года в последний раз навестил Петроград, где встретился с де Гартманом и его женой. Затем он возвратился в Москву и оттуда уехал на Кавказ.
Северкавказская мистерия
Шквал событий в России между тем нарастал. 8 и 9 марта 1917 года в Петрограде была расстреляна демонстрация. 15 марта от трона отрекся царь Николай II. Началось дезертирство из армии, терпевшей поражения на всех фронтах.
Успенский собрал петербургскую группу и предложил ей эмигрировать за границу, однако реакция большинства ее членов была нерешительной. Многие все еще надеялись на чудо. Вскоре пришла открытка от Гурджиева, сообщавшая, что он находится на пути в Александрополь и намерен пробыть на Кавказе до Пасхи. Из этой открытки было ясно, что Гурджиев едва ли знает о последних событиях в Петрограде. В мае от Гурджиева пришла короткая телеграмма, сообщавшая о его прибытии в Александрополь, и вслед за ней — вторая: «Если хотите отдохнуть, приезжайте ко мне».
Успенский пять дней добирался на поезде до Тифлиса. Россия «без власти» представляла собой любопытное зрелище. Было ощущение, что все держится только на инерции. Поезда еще двигались по расписанию, а на станциях часовые выгоняли из вагонов толпы встревоженных безбилетных людей, бежавших от грозных событий, надвигавшихся с севера. В Тифлисе на платформе проходил митинг: митинговали пьяные дезертиры с Кавказского фронта, судили и расстреливали «преступников», выносили резолюции. Успенский провел день в Тифлисе, а утром следующего дня он уже был в Александрополе.
Александрополь напомнил Успенскому города Северной Индии и Египта: дома с плоскими крышами, на которых росла трава, на холме древнее армянское кладбище, в центре города восточный базар с медниками, которые работали тут же, на открытом воздухе. Вдали виднелась покрытая снегом вершина Арарата. Гурджиева он застал увлеченным починкой динамомашины брата. Успенский познакомился с отцом и матерью Гурджиева. Отец его был крепкий старик лет 80-ти в каракулевой шапке и с неизменной трубкой во рту. По-русски он говорил очень плохо. Успенскому редко удавалось поговорить с Гурджиевым, тот был постоянно занят. Зато со своим отцом Гурджиев старался проводить все свое свободное время.
Успенский видел, что Гурджиев чего-то дожидается и сомневается относительно дальнейших действий: первоначально он предполагал вернуться в Петроград и продолжить там работу, потом стал подумывать о поездке в Персию, но по ходу событий изменил свое решение и предложил Успенскому самому поехать на север и как можно быстрее привезти оттуда учеников. «Сделайте остановку в Москве, затем поезжайте в Петербург, — сказал он Успенскому. — Скажите всем нашим в Москве и в Петербурге, что я начинаю здесь новую работу. Желающие работать со мной могут приехать. Советую вам долго там не оставаться».
Успенский съездил в Москву и Петербург, передал своим тамошним знакомым приглашение Гурджиева и менее чем за две недели вернулся на Кавказ. Он привез с собой новые впечатления от разворачивающихся в столицах событий, вести о безволии Временного правительства и о цинической безответственности рвущихся к власти большевиков. Вскоре ученики Гурджиева начали съезжаться из Москвы и Петрограда, а к августу 1917 года на Кавказе вокруг Гурджиева собрались, кроме Успенского, двенадцать человек.
Следующий шестинедельный период связан с городом Ессентуки на Северном Кавказе. «Всякий раз, когда мне случается разговаривать с кем-то из бывших там, они с трудом могут поверить, что все пребывание в Ессентуках длилось шесть недель. Даже в шесть лет трудно было бы найти место для всего, связанного с этим временем, — до такой степени оно было заполнено», — вспоминает Успенский.
Половина людей жили вместе с Гурджиевым на окраине города, другие приходили к нему в дом рано утром и оставались до глубокой ночи. Спали по четыре часа. Ученики выполняли всю домашнюю работу, остальное время было заполнено беседами и упражнениями. Несколько раз устраивались экскурсии в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск. Гурджиев оказался прекрасным поваром, умевшим готовить сотни восточных блюд. Каждый день устраивался обед в стиле какой-либо восточной страны: Персии, Тибета и т.п.
В Ессентуках Гурджиев развернул перед группой план работы в целом. Ученики впервые увидели перед собой широкую панораму «всех методов, всех идей, их звенья, связи, направления». Гурджиев дал ученикам множество упражнений для управления мышечным напряжением, а также позы, принятые в школах при молитве и созерцании, дал упражнения для расслабления тела и всех его мускулов, начиная с лица, упражнения на ощущение рук, ног, пальцев и т. д. Тогда же впервые Гурджиев познакомил своих учеников с упражнением «Стоп!», заявив, что без него невозможна никакая серьезная работа, ибо оно одно способно освободить человека от автоматизма движения. Эти упражнения сочетались с опытами поста и безмолвия.
Чем больше участники понимали сложность и разнообразие методов работы над собой, тем яснее становились для них трудности пути. Они понимали, какое огромное знание и какие серьезные усилия необходимы им, чтобы достичь желаемого. Но прежде всего, говорил им Гурджиев, человек должен знать, как далеко он желает идти и чем готов пожертвовать. Иллюстрацией человеческой привязанности к старым ценностям была рассказанная Гурджиевым армянская сказка про раскаявшегося волка.
Однажды волк почувствовал угрызения совести за растерзанных им овец и принял твердое решение измениться. Он пришел к священнику и попросил его отслужить по этому случаю молебен. Священник служил, а волк стоял в церкви и плакал от искреннего раскаяния. Служба была длинная, и, устав, волк выглянул в окно. Он увидел, что пастухи гонят домой овец, не выдержал и зарычал:
— Кончай, поп, а то всех овец загонят домой и оставят меня без ужина!
В другой раз Гурджиев дал своим последователям яркий пример духовной конкретики. В те дни среди учеников велись оживленные дискуссии на темы астрологии. Гурджиев объяснял, что планеты влияют только на тип, но не на индивидуальность человека. Однажды во время одного из местных ритуалов — прогулки по ессентукскому парку — Гурджиев обронил свою трость — черную палку с серебряным кавказским набалдашником. Один из шедших сзади учеников наклонился, чтобы поднять трость, и подал ему. Гурджиев повернулся к остальной группе и сказал: «Вот это и была астрология». И он попросил каждого рассказать о своей реакции на упавшую трость. После этого он обобщил: «В одной и той же ситуации один видит одно, другой — другое, третий — третье, и каждый действует в соответствии со своим типом».
Вскоре Гурджиев объявил, что прекращает всякую работу и лишь с одним из учеников едет к Черному морю. Впрочем, он не возражал, когда и другие захотели к ним присоединиться. Однако Успенский был удивлен этим решением, он не мог понять, почему Гурджиев решил прервать работу в самом начале, почему он не учитывает трудностей, в том числе и материальных, некоторых членов группы. «Должен признаться, что с этого момента мое доверие к Гурджиеву начало колебаться, — пишет об этом эпизоде Успенский, — Но факт остается фактом: с этого момента я стал проводить разделение между самим Гурджиевым и его идеями, а до сих пор я не отделял одно от другого». В конце августа Успенский последовал за Гурджиевым в Туапсе, а оттуда он отправился в Петербург, собираясь закончить там свои дела.
На этот раз Успенский пробыл в Петербурге дольше, чем предполагал и уехал оттуда за неделю до Октябрьского переворота. Свои впечатления от Петербурга он суммировал следующим образом: «Оставаться дольше было совершенно невозможно. Приближалось что-то отвратительное и липкое. Во всем можно было ощутить болезненное напряжение и ожидание чего-то неизбежного... Никто ничего не понимал, никто не мог вообразить, что произойдет дальше»
По возвращении он нашел Гурджиева на даче к югу от Туапсе, в 25 км от Сочи. Гурджиев купил двух лошадей, снял дачу с видом на море и жил там с небольшой группой людей. В группе начались напряжения. «От атмосферы Ессентуков не осталось и следа», — писал Успенский. Он снова был недоволен Гурджиевым: он ожидал от Гурджиева логически последовательного поведения, однако тот редко учитывал его и чьи-либо еще ожидания.
Затем неожиданно Гурджиев принял решение переехать в другoe место. Компания собралась в Туапсе, и был снят дом к северу от Туапсе, но в декабре поползли слухи о том, что часть Кавказской армии движется по берегу моря. Кроме того, в соседних городках стали активизироваться большевики, участились убийства их реальных или потенциальных противников. Было принято решение снова вернуться в Ессентуки и продолжить там работу. Успенский поехал туда первый, за ним потянулись остальные. В феврале 1918 года Гурджиев разослал циркуляр всем членам московских и петроградских групп, и к лету из голодных российских городов в Ессентуки приехали все, кто смог туда добраться.
Начался второй период совместной жизни в Ессентуках, наполненный, как и первый, трудами, беседами и учебой. Гурджиев впервые начал работать с ритмами и танцами дервишей. Были также упражнения, гимнастика, беседы, лекции и работы по дому — и беспощадные эксперименты с людьми. Для Успенского это время означало начало первого разрыва с Гурджиевым, неизбежность которого он давно уже слышал в самом себе. «Я ничего не мог возразить против методов Гурджиева, кроме того, что они мне не подходят, — пишет Успенский об этом новом своем отношении к работе Гурджиева и далее продолжает: — Решение оставить работу у Гурджиева и его самого потребовало от меня большой внутренней борьбы... Но ничего другого не оставалось».
Впервые Успенский понял неизбежность разрыва с Гурджиевым летом 1917 года, и уже через год после этого первый разрыв между ними стал реальностью. Они еще оба жили в Ессентуках, но Успенский перебрался из дома, где жил Гурджиев, в отдельный дом. Иногда Успенский встречал Гурджиева в парке или на улице, иногда Гурджиев заходил к нему, но сам он старался «дом» не посещать. Целых семь лет (1917— 1924) окажутся заполненными серией разрывов, после чего еще на одно семилетие (1924—1931) отношения разрыва станут перманентной фикцией, сложным и двусмысленным клубком; с 1931 года (во всяком случае, по мнению Джеймса Вебба) и до самой их смерти Успенский и Гурджиев больше не встречались.
Однако убеждение Успенского, что, оставаясь с Гурджиевым, он «не должен идти в том же направлении, в каком шел прежде», он распространял теперь не на себя одного — Успенский пришел к выводу, что «все члены нашей группы, за малыми исключениями, оказались в сходном положении».
Между тем, ситуация на Северном Кавказе резко ухудшилась. В Ессентуках свирепствовали эпидемии, каждую неделю город переходил из одних рук в другие, и каждая «власть» под предлогом расправы с «враждебными элементами» не упускала случая грабить и насиловать. Устраивались налеты на поезда, реквизировались вещи и ценности, молодые люди мобилизовывались в солдаты. Люди оказались полностью отрезанными от центра и не знали, что делается в мире.
Когда в Ессентуках установилось большевистское правление, Гурджиев, который давно уже раздумывал о наименовании для своей группы, звучащем вполне в большевистском духе — со словами «интернациональный» и «революционный», — заявил властям, что он и его друзья являются «Интернациональным идеалистическим обществом». Однако положение общины духовных практиков оставалось крайне шатким.
В начале августа 1918 года Гурджиев и большинство обитателей «дома» уехали из Ессентуков. Первоначально он планировал доехать железной дорогой до Майкопа и оттуда добраться также поездом до побережья Черного моря в районе Туапсе. Но события распорядились по-своему: группа застряла в заброшенном хуторе под Майкопом. Совсем недавно в битве под Майкопом белая армия одержала временную победу над красными, и Гурджиев со спутниками неожиданно оказались в раю: изобилие (в сравнении с Ессентуками) продуктов, стабильная власть и даже купания в Белой речке. Однако Гурджиев был далек от беспечности, он постоянно создавал трудовые напряжения для участников своей группы и при первом же удобном случае покинул оазис. Нагруженная предметами первой необходимости и продовольствием группа двинулась в направлении гор, и это было более чем своевременно: через день после их отъезда Майкоп был захвачен красными. Это была последняя щель для беженцев — не воспользовавшись ею, Успенский и ряд других членов гурджиевской группы застряли на захваченной красными территории еще более чем на год.
Первые несколько дней путь Гурджиева и его спутников пролегал по густонаселенной местности; затем они подошли к горам и двинулись в направлении юго-запада, рассчитывая рано или поздно выйти к морю в районе Сочи. Здесь путь их стал действительно опасным и полным приключений. На встречу им стали попадаться разрозненные банды белых, красных и других всевозможных расцветок. Чтобы избегать ежеминутных опасностей, Гурджиев должен был мобилизовывать все свои внимание, играть на психологических слабостях и «идейных убеждениях» бандитов. Для членов группы каждый такой выход из западни был чудом. Однажды очередные бандиты «реквизировали» все имущество у группы, в которой была г-жа де Гартман. Не потеряв самообладания, она потребовала у них документ, удостоверяющий факт «реквизиции», и список того, что было у них отнято. Не меньшим испытанием был и сам горный переход с рюкзаками и ручной кладью для непривычной к такого рода путешествиям московской и петербургской публике. Как-то по пути они встретили монаха со спутниками, скрывавшихся от большевиков в горной пещере. В другой раз посвятили время изучению долманов — каменных шатров, предположительно указывающих направление к древнему посвятительному центру.
Наконец, после тяжелых испытаний группа спустилась к морю в районе Сочи вдали от поля боевых действий. Один из участников экспедиции заболел и оказался в больнице, многие, включая Томаса де Гартмана, сбили себе ноги. Спасение отпраздновали ужином в гостинице. Однако раскол группы был неизбежен. Раскол этот приблизил сам Гурджиев, заявивший, что у него кончились средства. В Сочи с Гурджиевым остались г-жа Островская, де Гартманы, д-р Стерневал с женой и еще один-два человека. Уехали инженер П. и Захаров. В середине января 1919 года Гурджиев и его уменьшенная группа через порт Поти добралась до Тифлиса. Впоследствии все участники перехода Майкоп—Сочи вспоминали его как «спасение евреев из Египта и переход через пустыню».
После отъезда Гурджиева из Ессентуков там осталось около десяти человек; все они прошли через серьезные испытания. Успенский радовался тому, что его семья почти не пострадала от грабежей, никто не умер, у него был заработок и только двое членов семьи переболели брюшным тифом. На его руках были его жена Софья Григорьевна (впоследствии фигурировавшая под именем мадам Успенская) и ее дочь госпожа Свентицкая с двумя детьми. Сначала Успенский устроился привратником в частном доме, а потом получил должность учителя в гимназии. Кроме того, ему удалось спасти реквизированные большевиками книги городской библиотеки, и он перенес книги в здание гимназии и назначил себя на должность городского библиотекаря, повесив вывеску «Советская библиотека г. Ессентуки». Когда в январе 1920 года белые казаки захватили город, Успенский под пулями бегал вокруг гимназии, сдирая с вывески слово «советская», из-за которого библиотека могла быть подвергнута повторному разгрому — теперь со стороны казаков.
В это время он принял твердое решение эмигрировать и даже определил, что именно Лондон является тем местом, где он сможет продуктивно работать. Однако до того, как это намерение смогло осуществится, ему и его близким пришлось пройти через множество испытаний. Только в середине 1919 года он смог уехать из Ессентуков. Сначала он поехал в Ростов, потом попытался устроиться в Екатерине даре, затем — в Новороссийске и снова вернулся в Екатеринодар. В Екатеринодаре благодаря содействию своего знакомого Оража, редактора лондонского журнала «New Age», он смог на время устроиться в Британской экономической миссии при армии Деникина, для которой он составлял регулярные сводки событий. Тогда же он напечатал в «New Age» серию «Писем из России», из которых первое датировано 25 июня 1919 г., что свидетельствует о его более или менее регулярных контактах с живущим в Англии Оражем. В Ростове и Екатеринодаре Успенский впервые начал читать лекции, излагая слушателям систему Гурджиева.
В «Письмах из России» Успенский пробует донести до Запада то новое понимание современной истории, которое он и его современники получили ценой дорогих утрат и прежде всего ценой утраты страны, бывшей еще совсем недавно само собой разумеющимся пространством их жизни и творческой работы. Теперь на месте старой России был кровавый хаос, и все это стало возможным из-за иллюзий интеллигентных людей и, в частности, иллюзии, связанной со словами «социалистическое и революционное движение». Большевизм, который воспользовался этой иллюзией, оказался страшным перевертышем, готовым одевать любые маски, чтобы только захватить власть, и готовый на любую ложь и любое преступление, чтобы эту власть удержать. Большевизм, по Успенскому, — это «диктатура криминального элемента». Цитируя древние Законы Ману, он определяет его как «царство безбожных людей, в котором нет дважды рожденных обитателей» и предсказывал, что это царство «скоро погибнет от голода и болезней». «Письма из России» — это крик отчаяния из глубины тонущей России, обращенный к Западу как предупреждение и предостережение. Успенский тщетно надеется, что на Западе найдутся люди, которые его услышат и придут на помощь.
Однако развал России усугублялся, под ударами красных отступала армия Врангеля и армия Деникина терпела все новые поражения, разъедаемая изнутри отсутствием ясной цели, невежеством, продажностью и пьянством. Британская экономическая миссия отступала вместе с армией Деникина в Ростов, и Успенский вслед за нею перебрался в Ростов. В Ростове Успенский встретил нескольких членов гурджиевской группы и поселился с одним из них, А.А. Захаровым, который мечтал о поездке в Тифлис к Гурджиеву.
В конце 1918 года Успенского нашел в Ростове переводчик, писатель и сотрудник «New Age» Карл Бехофер Роберте, встречавшийся с Успенским в Адьяре (в Индии) и в Петербурге в самом начале войны. С Робертсом и Захаровым Успенский встретил Рождество, радуясь чудом раздобытому углю для печки-буржуйки и спирту и гадая о том, где они будут через месяц. Через месяц Карл Бехофер Роберте записал в своем дневнике: «Я в Новороссийске. Успенский, я думаю, в Екатеринодаре, пытается вывезти жену к Черному морю, а Захаров три дня назад скончался от оспы. В Ростове большевики».
Хотя Успенский и радовался тому, что в эти страшные годы его семья почти не пострадала от грабежей и что никто не умер, ему, несомненно, достались суровые испытания, из которых он сумел с достоинством выйти. Перед тем как попасть в Лондон, ему пришлось провести еще полтора трудных года в Константинополе, где он занимался частным преподаванием английского и математики, а также вел занятия по системе Гурджиева. В своих интеллектуальных странствиях по Востоку, в скитаниях в годы Гражданской войны и эмиграции — в Константинополе, в Англии и в Америке и до самых последних месяцев и недель своей жизни — Успенский сохранял педантический внутренний порядок, который только частично проявился в его книгах и выступлениях. Эта система Успенского была тем фундаментом, который помог ему не только самому не потерять внутреннюю цельность и сохранить направление усилий, но и стать опорой и дать направление сотням и тысячам нуждавшихся в нем людей.
Летом и осенью 1919 года в Екатеринодаре и Новороссийске было получено два письма от Гурджиева из Тифлиса, куда тот добрался с четырьмя своими учениками. Гурджиев писал, что он организовал в Тифлисе Институт гармонического развития человека с обширной учебной программой, и приглашал Успенского принять участие в работе института. Также он писал о том, что готовит к постановке балет «Борьба магов». Гурджиев прислал Успенскому программу Института, в которой утверждалось, что эта система «уже применяется в целом ряде больших городов, таких, как Бомбей, Александрия, Кабул, Нью-Йорк, Чикаго, Осло, Стокгольм, Москва, Ессентуки, и во всех отделениях и пансионатах истинных международных и трудовых содружеств...»
Не без грустной иронии читал Успенский этот текст, одновременно видя всю его претенциозную браваду и находя оправдание Гурджиеву в понимании того, какому читателю адресованы подобные тексты. Эту склонность к помпе и фальши он успел увидеть в Гурджиеве за годы тесного общения с ним, и именно эти и подобные его черты отталкивали его от учителя. В то же время его непреодолимо тянуло к Гурджиеву, который так много дал ему и в плане самопознания, и в плане понимания происходящего в окружающем мире. Он знал, что его отношения с Гурджиевым еще далеко не исчерпаны, но от поездки в Тифлис отказался.
Учитель в Тифлисе
Тем временем Гурджиев и его спутники прибыли в Тифлис. Крушение Германии в 1918 году привело к тому, что турки ушли из Закавказья и три маленьких народа — грузины, армяне и азербайджанцы — праздновали свою ненадолго обретенную независимость. Карл Бехофер Роберте, оказавшийся в это время в Тифлисе, увидел в городе «все, что осталось от русского общества: поэтов и художников из Петрограда и Москвы, философов, теософов, танцоров, певцов, актеров и актрис». На террасе одного кафе он встретил Гурджиева в обществе модного грузинского поэта Паоло Яшвили и его друзей. Гурджиев оказался в самой гуще тифлисской богемы, он проводил время в духанах и тавернах с поэтами и художниками, обсуждал планы на будущее со своими спутниками и одновременно налаживал бизнес по торговле коврами. Он нашел время показать англичанину тифлисские серные бани и колоритные духаны и очаровал его тем, что не вел с ним ожиданных «теософских» разговоров, а наслаждался покоем и гостеприимством знакомого ему с юности южного города.
Де Гартманы также быстро нашли свое место в этом Вавилоне: Ольга де Гартман начала петь в тифлисской опере, а Томас де Гартман — преподавать в консерватории. Художником оперного театра был некто Александр де Зальцман, с которым де Гартман познакомился в Мюнхене. Александр де Зальцман был сыном государственного деятеля из Прибалтаки. Он учился в Тифлисе и Москве и долго жил в Мюнхене, где подружился с Рильке и Кандинским. Там же он стал членом художественной группы Jugendstil и публиковал рисунки и репродукции своих картин в журналах Jugend и Simp/ids-simus. В своих работах он соединял элементы гротеска и плаката со стилем Art Nouueau. В 1911 г. оставив Мюнхен, де Зальцман переехал в Хеллерау, небольшой город под Дрезденом, где он начал сотрудничать с Эмилем Жак-Далкрозом, основателем школы эвритмии, и где проявил себя как талантливый художник, работая с театральными декорациями и освещением. Там же в Хеллерау он встретил свою жену Жанну Аллеманд, тогдашнюю ученицу школы эвритмии, и вместе с ней в 1914 году покинул Германию. В 1919 году бурные события в Европе и России привели де Зальцманов в Тифлис, где они встретили Гурджиева и вскоре стали его горячими поклонниками и последователями его экзотического учения. Этому обстоятельству в немалой степени способствовал духовный кризис, который переживала жена Александра Жанна. Будучи дамой от искусства, преподававшей в Тифлисе эвритмию, она искала в истории искусства оригинальные проявления художественного гения и видела везде лишь подражания и заимствования. Гурджиев оказался человеком, который объяснил ей, почему спящий человек не может сам ничего «делать», и пробудил в ней страстное желание вспомнить себя и проснуться. Его идеи объективного и субъективного искусства покорили ее окончательно. Вскоре Гурджиев целиком перенял у Жанны де Зальцман основанную ею в Тифлисе школу эвритмии и начал обучать ее воспитанниц своим «движениям» и танцам, а еще через некоторое время Александр выхлопотал для Гурджиева рабочую комнату в Тифлисском оперном театре, и тот начал работу над постановкой балета «Борьба магов».
Когда осенью 1919 года Гурджиев, де Гартманы и де Зальцманы оказались вместе в Тифлисе и гурджиевская торговля коврами начала приносить финансовые плоды, Гурджиев предложил оформить их совместную деятельность как Институт гармонического развития человека, что вскоре было сделано с разрешения Министра образования, и рекламный проспект института был составлен, напечатан и разослан по всем нужным адресам. (Мы помним, что проспект этот дошел и до Успенского, жившего в это время в Екатеринодаре, однако не вызвал в нем большого энтузиазма.) В работе института главное место отводилось танцам и ритмическим упражнениям, упражнениям для развития воли, внимания, внимания, памяти, слуха, мышления, эмоций. Центральным в работе Гурджиева становился балет. Балет, по мнению Гурджиева, должен был стать «школой». Участники балета должны были изучить себя и учиться управлять собой, продвигаясь таким образом к раскрытию высших форм сознания.
С большим трудом под институт было получено соответствующее здание, в котором начались репетиции будущего балета. Гурджиев увлеченно вел занятия с танцорами, одновременно работая над сценарием балета и рисуя декорации. Не знавший нотной грамоты, он насвистывал де Гартману музыкальные темы, которые должны были лечь в основу балета, а де Гартман их записывал. Александр де Зальцман работал вместе с Гурджиевым над костюмами, а Жанна де Зальцман — над хореографией. Гурджиев сам шил многие костюмы и делал эскизы декораций. Параллельно он занимался торговлей коврами, но денег на постановку не хватало, их не хватало даже на костюмы.
Нестабильность местных режимов выражалась в стремительной девальвации местных денег — заработанные на ковровом бизнесе деньги мгновенно обесценивались. В этой обстановке Гурджиев предпочитал хранить деньги не в обесцененных рублях, а в коврах, но расплачиваться коврами за постановку было невозможно. Между тем, политическая обстановка в Тифлисе становилась все более неспокойной, и хотя большевики пришли в Грузию лишь в январе 1921 года, Гурджиев принял решение покинуть Тифлис уже летом 1920 г. — Институт просуществовал несколько месяцев. Разделив ковры — их единственное богатство — между своими учениками, Гурджиев двинулся с ними в сторону моря.
В июне 1920 года на попутном пароходе компания, состоящая из Гурджиева и его многочисленных спутников, отплыла из Батума в Константинополь.
Константинопольские будни
В начале 1920 года Успенскому удалось уехать из России. Путь его лежал в Константинополь. Он был уверен, что Гурджиев скоро приедет туда. И действительно, Гурджиев приехал в июне с компанией своих старых и новых учеников. Успенский обрадовался Гурджиеву, пригласил его на свои лекции и передал ему всех посещавших эти лекции людей.
В Константинополе Гурджиев сразу же оказался в тисках новых финансовых забот. Дело в том, что во время плавания все их ковры были реквизированы пиратским судном, а других средств у Гурджиева и его спутников не было. Ковровый бизнес пришлось начинать с самого начала. Одновременно Гурджиев начал организовать в Константинополе в районе Пера продолжение своего тифлисского Института гармонического развития человека. В этом ему активно помогал Успенский. В Институте помимо ритмических движений, лечебной гимнастики, древних восточных танцев, Гурджиев читал лекции «по вопросам религии, философии, науки и искусства с эзотерической точки зрения», в которых особое внимание уделял «системам изучения человека и теориям сверхчеловека».
Это было время нового сближения Успенского с Гурджиевым. Они вместе работали над сценарием балета, посещали текки дервишей, бродили по константинопольским базарам. Однажды они провели целую ночь, занимаясь расшифровкой и переводом одной из песен дервишей для балета «Борьба магов». Балет снова стал фокусом, объединившим вокруг себя таланты и усилия многих людей, связанных с гурджиевской «работой».
Балет представлялся его создателям символическим спектаклем, основанным на гурджиевских «движениях» и сочиненной им музыке. Сценарий был соединением мистики и мелодрамы. В первом акте, действие которого происходит в шумном и пестром восточном городе, благородный Гаффар влюбляется в прекрасную Зейнаб. Во втором акте обнаруживается, что Зейнаб — ученица белого мага, здесь она и другие ученики изучают в танцах «космосы» Гурджиева и символ энеаграммы. В третьем акте воспламененный любовью Гаффар прибегает к помощи черного мага, чтобы преодолеть упрямство Зейнаб. Далее действие перемещается в пещеру черного мага, где его ученики, страшные и уродливые, танцуют дикие танцы, отображающие всевозможные человеческие страсти. Черный маг наводит свои чары на Зейнаб, вынуждая ее покориться Гаффару. В конце балета белый маг разрушает чары своего противника и приказывает Гаффару и Зейнаб предстать перед ним. Они являются к нему в сомнамбулическом состоянии, но он оживляет их, и все заканчивается их радостным воссоединением и молитвой Творцу, который помог им избежать злых чар и духовного рабства.
Но постепенно в процессе работы с Гурджиевым перед Успенским стали возникать те же трудности, что и в Ессентуках. Он снова разошелся с Гурджиевым, хотя странным образом продолжал с ним общаться и читать лекции в его институте в Пера. Однако институт в Пера просуществовал очень недолго. Политическая ситуация в Турции становилась пугающей — в стране активизировались младотурки. В начале лета 1921 г. Гурджиеву пришлось закрыть свой институт в Пера, и он начал готовится к переезду в Германию. Выбор Гурджиевым этой страны в немалой степени определялся расчетами на немецкие связи де Зальцманов.
Неожиданно в июне этого года Успенский получил гонорар за публикацию перевода его книги Tertium Organum в Америке, сделанного без его ведома. Успенский поблагодарил своего издателя Клода Брагдона за публикацию и вежливо поинтересовался, не может ли он помочь ему и его семье перебраться в Англию или Америку. Конечно, это было не в силах скромного американского издателя, но неожиданно он получил телеграмму от виконтессы Розермер, жены влиятельного английского издателя. Телеграмма гласила: «Книга Tertium Organum очень заинтересовала меня. Очень хотела бы встретится с вами. Выезжаю из Англии в конце месяца». Навестив издателя Успенского в Штатах, леди Розермер отправила Успенскому в Константинополь телеграфом 100 фунтов. В другой ее телеграмме говорилось: «Нахожусь под глубоким впечатлением от вашей книги Tertium Organum. Хотела бы встретиться с вами в Нью-Йорке или Лондоне. Оплачу все расходы».
Однако нерешенным оставался вопрос о визах. Этот вопрос Успенскому помог решить молодой работник английских спецслужб Джон Г. Беннетт, который, живя в это время в Константинополе, дружил с русским аристократом и толстовцем М.А.Львовым, из идейных соображений бесплатно чинившим обувь русским эмигрантам, и с Томасом де Гартманом, выступавшим в роли дирижера. Однажды Львов попросил Джона Беннетта об одолжении: он сказал, что его старый друг П. Д. Успенский ищет помещение для собраний и спросил, не мог бы
Успенский воспользоваться для этих собраний пустовавшей гостиной Беннетта. Разрешение было получено и Успенский начал проводить лекции по «четвертому пути» в новом месте. Через какое-то время Джон Беннетт познакомился с Гурджиевым. С Гурджиевым его познакомил князь Сабахеддин, сообщив ему, что Гурджиев — оккультист, путешественник и исследователь. Гурджиев пригласил Джона Беннетта на демонстрацию своей балетной группы. На этом занятии он встретил Успенского и де Гартмана и к своему удивлению обнаружил, что они являются учениками Гурджиева. Сам он тоже заинтересовался учением Гурджиева и подружился с Успенским. Интересны первые впечатления Джона Беннетта от встречи с Гурджиевым, которые он позже сравнил с впечатлением своей приятельницы миссис Бьюмон:
«Было, наверное, уже половина десятого, когда появился Гурджиев. Без тени смущения он вошел, приветствовал князя по-турецки с акцентом из странной смеси культурного осман-ли и какого-то грубоватого восточного диалекта. Когда нас знакомили, я взглянул в самые необычные глаза, которые я когда-либо видел. Глаза отличались один от другого настолько, что я решил, что дело в освещении. Но, как выяснилось потом.., дело было в выражении глаз, а не в их форме или каком-либо дефекте. Он носил длинные черные усы, свирепо закрученные кверху, на голове был колпак — астраханская шапка... Когда после ужина он снял головной убор, я увидел, что его голова была выбрита. Роста он был небольшого, но очень крепкого сложения. Я подумал, ему должно быть около пятидесяти, а мадам Бьюмон была уверена, что он гораздо старше».
Когда возникла нужда в визах, Джон Беннетт сумел выхлопотать визы для Успенского и его семьи, но не для Гурджиева, о котором у английских властей оказалось самое нелестное мнение. В августе документы Успенского были готовы. К этому времени Гурджиев и его спутники были уже в Германии.
Неудачи Гурджиева в Германии и в Англии
В августе 1921 года, получив с помощью Джона Беннетта английскую визу, Успенский уехал в Лондон, и почти одновременно с ним Гурджиев со своими спутниками через Румынию и Венгрию уехал в Германию. Он прибыл в Берлин с де Зальцманами, де Гартманами и мадам Успенской, ее дочерью и внуками. Доктор Стерневал с женой были отправлены в Финляндию с задачей продать там свое имение и вернуться в Берлин. В пригороде Шмагердорфа было арендовано большое помещение, в котором все они временно разместились, и Гурджиев начал объезжать Германию, подыскивая возможное место для Института. Этот период длился год, и о нем известно очень мало.
Германия в начале 1920-х годов была Меккой мистицизма. Вышедшая с поражением из Первой мировой войны, эта страна искала оправдания и осмысления своего настоящего и будущего, а также всевозможных идей, способных вдохнуть в нее жизнь и энергию. Популярным был мистический национализм разных оттенков, антисемитизм шел рука об руку с антибольшевизмом, подвергались нападкам массонство и антропософия. Не исключено, что идеи Гурджиева могли просочиться в немецкие мистические круги через эмигрантов из России и заинтересовать некоторых будущих нацистских функционеров, однако об этом имеются только косвенные свидетельства. Более вероятно, что основные связи Гурджиева были с художниками и интеллектуалами, а также с эмигрантами из России. В одном из своих черновиков Гурджиев упоминал о некоей баварской группе своих последователей, но больше об этой группе нет никаких упоминаний.
Любопытный эпизод произошел в далкрозовской школе эвритмии в Хеллерау, куда Гурджиев приехал с намерением арендовать ее здание для своего Института. Аренду перехватили конкуренты, с которыми Гурджиев судился и проиграл процесс: здание было отдано в аренду его противникам. Однако он успел дать несколько классов ученикам этой школы и увлек некоторых из них своими «движениями» и ритуальными танцами, а также своими идеями о возвращении человечества к состоянию, в котором оно было до грехопадения — они оставили школу Далкрозе и последовали за Гурджиевым. Хотя ему не удалось арендовать здание школы в Далкроза, Гурджиев вышел из этого эпизода с новым амплуа — учителя танцев, которое стало его новой ролью в последующий период его жизни. После неудачи в Хеллерау Гурджиев вернулся в Берлин и начал готовиться к поездке в Англию к Успенскому.
Он прибыл в Лондон в феврале 1922 года и встретился с учениками Успенского. На этой встрече он говорил главным образом о «впечатлениях» и «энергиях». По воспоминаниям Оража, Гурджиев говорил о том, что только дети обладают способностью получать новые впечатления, однако по мере взросления способность получать новые впечатления слабеет. Аналогичное происходит и с энегрией: с возрастом новая энергия добывается и используется нами механически. Однако имеются методы получения новой энергии. Гурджиев сделал в этом выступлении ряд интересных наблюдений, однако напугал некоторых слушателей своими идеями, манерами, а может быть и своим видом — он приехал в Англию с обритой головой. Во второй раз он встретился с учениками Успенского через месяц — в марте. На этот раз он говорил о сущности и личности, а также о гипнозе. После узком круге продолжились разговоры об Институте. Но обосноваться в Англии Гурджиеву тоже не удалось. Несмотря на хлопоты английских друзей, Гурджиев не получил визу. Впрочем, ему было поставлено условие, которое он не принял: он мог получить визу один, без спутников, приехавших с ним из Тифлиса и Константинополя.
Летом 1922 года на деньги, собранные учениками Успенского в Лондоне, Гурджиев купил замок Шато Приорэ в Авоне, близ Фонтенбло, и открыл в нем свой Институт. Туда к Гурджиеву устремились константинопольские и лондонские ученики Успенского. Работа Гурджиева в этот период была посвящена главным образом методам изучения ритма и пластики. В декабре 1923 года Гурджиев устроил в Париже, в театре на Елисейских полях демонстрацию плясок дервишей, ритмических движений и упражнений. Через месяц после этого он вместе со значительной частью своих учеников уехал на гастроли в Америку. В день отъезда Успенский был в шато Приорэ. По возвращении в Лондон он объявил своим лондонским ученикам о своем окончательном разрыве с Гурджиевым.
Лондон, Варвик-стрит 38
В 1920-е годы собрания Успенского в Лондоне проходили на 38 Варвик-стрит в Южном Кенстингтоне. Особняк этот до сих пор гордо и независимо стоит на своем месте, являясь приютом одной из групп последователей П.Д.Успенского.
Кеннет Уолкер, хирург, который пришел к Успенскому в 1923 г., вспоминает о неизменном формате собраний на Варвик стрит. Посетителей впускала г-жа Евгения Кадлубовская, жена бывшего русского дипломата, которая исполняла роль секретаря и администратора Успенского. На собраниях царила строгая напряженная атмосфера средней школы, аудитория в молчании ждала лектора, который всегда опаздывал, что было частью общего стиля также Гурджиева и Оража. Успенский входил молча и почти незаметно и произносил свое неизменное «Well».
Ром Ландау описывал его как человека «седого, бритого, средних лет, плотного и в очках». Нельзя было угадать, о чем будет следующая лекция, но порядок собраний не менялся. Ром Ландау, познакомившийся с Успенский через десять лет после Кеннета Уолкера, нашел обстановку и атмосферу точно такой же, как и в 1923-м году. Успенский держал перед собой свои записи не столько, чтобы читать их, сколько чтобы скрывать в них свой взгляд. Иногда, впрочем, он снимал очки, подносил тетрадь близко к носу, и вообще забывал об аудитории. Его английский с сильным русским акцентом и отрывистая манера говорить делала очень трудным понимание того, о чем он говорил, но это каким-то образом не отвлекало слушателей и не портило общего эффекта. Вводная лекция могла продолжаться до 45 минут, однако обычная лекция длилась от 5 до 15 минут, после чего наступала тягостная пауза, которая заканчивалась, когда кто-нибудь из присутствующих отваживался задать вопрос. Важным, по мнению Успенского, была не лекция, а — вопросы и ответы. В то же время Успенский не выносил вопросов, которые считались «философскими», то есть заданными для удовлетворения любопытства. Как-то кто-то спросил его: «Находится ли Будда в седьмом состоянии сознания?» Успенский резко ответил: «Я не знаю». Некоторое время после этого он молчал и каждый почувствовал, что, возможно, мысленно он добавил к этим словам: «и не хочу знать».
Именно вопросами Успенский и его петербургские и московские друзья вынуждены были в свое время извлекать информацию из Гурджиева. И именно этот метод направленных умственных усилий Успенский считал наиболее продуктивным для своих новых слушателей в Лондоне. Метод лекций, вопросов и ответов несомненно производил глубокое воздействие на слушателей. Когда Успенский впервые встретил систему Гурджиева, ему понадобилось два года напряженных усилий для того, чтобы, наконец, поверить, что он понимает Гурджиева и помнит себя. Странным образом в Лондоне все происходило быстрее и эффективнее. Присутствующие на лекциях и дискуссиях на 38 Варвик-стрит позже отмечали, что лекции Успенского вместе с вопросами и ответами, которые следовали за ними, действовали в акселерированном темпе. Его ученик Родни Коллин-Смит вспоминал о быстром «странном пути развития возможностей, который проходил через лекции Успенского». Ром Ландау также отмечал быстрые практические результаты «даже за один год работы».
Для Успенского концепция системы была неотделима от концепции школы. И та, и другая имели в его представлении определенную структуру. Система, которой учили в школах, требовала от учеников дисциплины. «Где нет правил, там нет школы», — утверждал Успенский. Правила создавали напряжение и способствовали усилиям по преодолению негативных эмоций. Ученик должен был отдать себя в руки учителя, то есть отказаться от определенного количества собственной воли. Правило не говорить с посторонними о «работе» было создано для того, чтобы предотвратить помехи в «работе». Болтовня должна была повлиять на самооценку учеников: болтая о «работе» с посторонними, они рисковали не только исказить идеи, но и обесценить то, что предназначалось для внутренней работы.
Некоторые из этих правил были связаны с самой «работой», другие были инициированы Успенским в знак протеста против хаотичности Гурджиева. Ученики не должны были называть друг друга по имени, а должны были пользоваться обращениями «господин», «госпожа». Приезжая на Варвик-стрит, они должны были оставлять свои машины за несколько кварталов от места встречи, чтобы не привлекать внимания к зданию. Если они встречались где-нибудь в публичном месте, они не должны были узнавать друг друга, чтобы не быть втянутыми в разговор о работе в присутствии посторонних. Они должны были различать друзей по «работе» и друзей вне «работы». Было множество других, часто непонятных и утомительных правил, однако трудность их выполнения была частью работы.
Правила должны были создавать напряжение и атмосферу тайного общества, и это приводило к курьезам. Чтобы встретиться с другом по «работе», нужно было соблюсти много предосторожностей. Например, нельзя было договариваться о встрече по публичному телефону, так как была вероятность быть подслушанным телефонисткой. Иногда правила имели неприятные стороны. Если человек выходил из группы и отходил от «работы», остальные должны были подвергнуть его остракизму. Гурджиев в свое время объяснил, что смысл такого правила состоит в том, чтобы беглый ученик не боялся вернуться, хотя такое отношение к беглецу наверняка способствовало еще большему его отчуждению. Согласно Успенскому, это правило должно было внушить беглецу, что он умер для своих старых друзей.
Последователи Успенского хором отмечают, что при всей своей показной строгости он был милейшим и добрейшим человеком. Однажды, когда его ученик сообщил ему о помолвке с его ученицей, он расплылся в широкой улыбке и сказал: «Для такого случая нет никаких правил». Вообще, по сравнению с гурджиевскими методами, его методом была сама мягкость. Один из американских учеников Успенского определил это так: «Омлет Успенского — не очень крутой». Другой ученик заметил: «Он был безукоризненно вежлив, но если это нужно, он мог и заорать по-московски, криком, который звенел в воздухе и пробуждал ученика, к которому он был обращен».
Успенский редко пользовался театральными приемами, которые очень любил Гурджиев, и ощущение, что он играет роль, редко присутствовало на его встречах с учениками, но у него были на вооружении словесные приемы, которые имели тот же эффект. Если при этом учесть его прекрасное понимание психологического состояния ученика, то можно быть уверенным, что он добивался не меньших результатов меньшими усилиями. Вот воспоминание одного из учеников о встрече с Успенским, на которой он раскрывал концепцию многих «я»:
«Он ругал нас, требуя, чтобы мы никогда не произносили слово "я"», если мы не знаем, что мы говорим. Я возразил: «Но, г-н Успенский, Бог сказал Моисею на горе Табор: "Я есть кто Я есть". Я сидел в первом ряду. Он остановился, посмотрел на меня и затем сказал очень мягко: "Да. Но вы, видите ли, не Бог. В вас нет "Я". Вам нужно работать. Работать, чтобы иметь Я'. "Если бы только у меня было достаточно сил для работы!" — искренне сказал я. "У вас есть эта сила. — заверил он меня. — Вы только тратите ее на споры". Он посмотрел на меня долгим взглядом и улыбнулся».
За суровой фигурой Успенского периода Варвик-стрит стоит мягкий и очаровательный Успенский, проглядывающий сквозь его решимость «к серьезным вещам относиться серьезно». По воспоминаниям близких к нему учеников, он умел радоваться вину и поэзии и обладал неотразимым юмором. В Лондоне он был завсегдатаем китайского ресторана на Оксфорд-стрит, и его отменный вкус сделал его почетным дегустатором чаев фирмы «Твайнингс». Некоторые из его учеников не могли увидеть его без пьедестала. Джон Беннетт вспоминает, что когда он сопровождал Успенского в магазин для покупки гравюр с изображением Петербурга для его квартиры, он долго не мог поверить, что это была не учебная экспедиция и что его мастер нуждался в отдыхе и развлечении. «Очень трудно подружиться с Успенским», — сказала как-то мадам Успенская. То, что можно было бы воспринять как недостаток, рассматривалось его учениками как тайна учителя.
Успенский принимал своих учеников частным образом в своей квартире на Гвендвер-род, по словам Кеннета Уолкера, в «торжественном викторианском доме на жалкой улице». Его описание комнаты учителя дает ощущение типичной для Успенского безбытности: «Там были диван-кровать, книжный шкаф, два кресла возле газового камина и большой стол, на котором были пишущая машинка, письменные принадлежности, фотоаппарат, гальванометр и некоторые неизвестные научные приборы. На подоконнике стояла открытая коробка сардин, остатки буханки хлеба, тарелка, нож, вилка и остатки сыра». Однако эти черты холостяка и богемного человека Успенского можно было увидеть только у него дома — на лекциях он всегда был собран и подтянут.
Обстановка нестабильности, выразившая себя в мировой войне и революции, бессмысленность и жестокость социальных катаклизмов обострили для Успенского вопрос о кармических последствиях зла. Нравственный императив (или, по словам Беннетта, «аскетическое пуританское начало») Успенского столкнулся с тем, что представлялось ему гурджиевским нравственным релятивизмом. В гурджиевском понимании современный спиритуалист и материалист, святой и преступник оказывались одинаково далеки от источника традиционного знания и понимания «смысла и назначения человеческого существования на земле». Эта позиция была чужда Успенскому. Идеал «просвещенной духовности», которому он оставался верен, привел его к болезненному разрыву с Гурджиевым, которого в своей системе понятий он определил как «загрязненный источник». Осенью 1930 года он сообщил Беннетту и другим близким ученикам, что, поскольку он не дождался результатов, которые он ожидал от работы Гурджиева, разрыв с последним больше не будет влиять на его собственную работу.
Фотенбло, шато Приер
Шато Приер стоит на холме в деревне Авон на окраине Фонтенбло. Это трехэтажный дом с большой гостиной в стиле ампир, малой гостиной и библиотекой на первом этаже, с роскошными спальнями на втором — для хозяина, мадам Островской и избранных гостей и с малыми спальнями — на третьем, где на матрацах, брошенных на пол, спало большинство учеников, обычно по четыре человека в комнате. Перед домом был круглый бассейн с фонтаном, другой бассейн, который использовался для купаний, находился за домом.
Позади шато был сад, за садом шла липовая аллея с лужайками и скамейками по сторонам. Аллея заканчивалась круглым прудом, полным водяных лилий. При Гурджиеве справа от аллеи появилось Учебное здание, слева — каменоломня. Тут же были загоны для коров, овец, коз и кур и строилась русская баня. За загонами шли поля в направлении Сены, которые заканчивались еловым, дубовым и буковым лесом. Дорога через лес вела к лесопилке, где ученики Гурджиева рубили деревья и распиливали их на доски.
Сначала, в 1922 году, шато Приер было взято в аренду, а после был приобретено Гурджиевым при помощи средств, собранных лондонскими учениками Успенского. В октябре 1922 года он въехал туда с толпой учеников, и сразу же там развернулась бурная деятельность. Прежде всего был напечатан проспект по-французски, извещавший публику об открытии «Института гармонического развития человека Георгия Гурджиева». Проспект начинался с рассказа об «искателях истины» и о российских приключениях Гурджиева и заканчивался внушительным аргументом: указанием на число, которое достигало пяти тысяч последователей Гурджиева. В англоязычном проспекте, который появился позже, Гурджиев напустил еще больше тумана. Там говорилось об изучении методов усовершенствования человеческого «я» в соответствии с теориями европейских и восточных научных школ, о применении психологических методов к различным наукам, о космической психологии и вселенской механике, о теории относительности, нумерологии, астрофизике, алхимии, древней и современной восточной медицине, о психологии искусства, древней и новой философии, о гармонических ритмах и медицине. Медицинский раздел включал длинный список «терапий»: гидротерапию, фототерапию, электротерапию, магнетотерапию, психотерапию, диетотерапию и даже некую «дулиотерапию». Кроме того, проспект сообщал, что в институте открыты психометрический, химико-аналитический и психо-экспериментальный кабинеты...
Трудно представить себе человека, который, просто взглянув на такой проспект, не отшатнулся бы от Гурджиева и от этого места. Тем не менее вместе с Гурджиевым в шато Приер въехали около 70 человек. И сразу же закипела работа. Прежде всего собственными силами под руководством Гурджиева было построено Учебное здание, где происходили занятия «движениями», лекции и общие собрания. Здание перестроили из самолетного ангара, купленного Гурджиевым за бесценок.
Половину обитателей шато Приер составляли «русские эмигранты», включавшие, кроме русских, поляков, армян, грузин и даже одного сирийца. Вторую половину составляли «англичане», среди которых было четыре доктора: Николл, Алкок, Юнг и Белл, столько же или еще больше теософских дам, Ораж, австралийка Кетрин Менсфильд, литераторы Роланд Кенни и Розамунд Шарп и несколько дипломатов. Было несколько гостей, приезжавших на выходные дни, среди них Джон Беннетт, Клиффорд Шарп и вездесущий Бехофер Робертс, встретивший Новый 1918 год с Успенским в Екатеринодаре и посещавший с Гурджиевым тифлисские серные бани и духаны в 1922-м.
В шато царила атмосфера экзальтации. Ходило множество рассказов о невероятных переживаниях, которые испытывали обитатели этого места. Частым гостем в шато был приезжавший сюда из Лондона Успенский. Ораж, критик, журналист и издатель авангардного литературно-художественного журнала «New Age», не знавший прежде никакой физической работы, нарастил мощные мускулы и приобрел здоровую грубую кожу крестьянина. Морис Николл, психоаналитик и впоследствии автор многотомных «Комментариев к учению Гурджиева и Успенского», превратился в рабочего, а его жена — в кухонную прислугу. Александр де Зальцман работал на лесопилке, передвигая бугром огромные бревна. На чердаке коровника на сеновале доживала свои последние недели знаменитая австралийская писательница Кетрин Менсфильд, которой Гурджиев предписал это место обитания как метод лечения от туберкулеза. Многие богатые и аристократические ученики Успенского, командированные к Гурджиеву их учителем, работали в имении землекопами и посудомойками. Русские жили в домиках в глубине парка, англичане и прочие — в маленьких клетушках на третьем этаже шато.
Рабочий день начинался в шесть часов утра и заканчивался в шесть часов вечера с перерывами на завтрак и обед. Завтрак разносился по рабочим местам около восьми утра и обычно состоял из хлеба, масла, джема и каши. Обед был в полдень и состоял из хлеба и супа. Еда была невкусная и малосъедобная, часто ее не хватало и многие ходили голодными.
Новички начинали с работы на кухне, что было в обычае у дервишей мевлеви и в других подобных общинах. В их обязанности входило мытье полов и посуды, раздача завтраков и множество подобных дел. Далее новичка посылали работать на лесопилку, где он учился пилить огромные стволы длинной двуручной пилой — из этих стволов получались длинные доски, нужные в строительстве. Работа была изнурительная, на солнцепеке, и делалась вся вручную. Темп работы задавал де Зальцман. После лесопилки наступала очередь каменоломни, где неимоверно тяжелый известняк разбивали при помощи кувалды, долота и лома для строительства русской бани. Огромные каменные глыбы вытесывались для дверных и оконных перемычек. Дамы, в основном англичанки средних лет, копали землю и выкорчевывали корни деревьев, срубленных мужчинами, так как эта работа считалась легкой. Работа проходила на фоне различных видов голодания, которые обитатели шато брали на себя добровольно. Обычно голодание сопровождалось различного рода умственными упражнениями, например, заучиванием наизусть длинных списков тибетских слов. Бумажки со списками этих слов дамы засовывали себе под браслеты, и время от времени вытаскивали их и читали, а потом снова набрасывались на работу.
Гурджиев мелькал тут и там, вмешивался в работу, помогал раскалывать тяжелые глыбы, двигать и пилить бревна, возводить стены или же просто кричал: «Скорее, скорее!» Во время пожара в декабре 1922 года, спалившего две комнаты в шато, его запомнили в языках пламени, с огромной кувалдой, ломающим горящие стены. Фриц Перец, ребенком попавший в Приер и проживший там какое-то время в роли «кофейного мальчика» при Гурджиеве, пока его американские родители решали в Нью-Йорке свои психологические проблемы, вспоминает, как один из обитателей шато острым кухонным ножом до самого локтя разрезал себе руку и как случайно вошедший на кухню Гурджиев, не секунду не думая, схватил пораненную руку испуганного и истекающего кровью человека и поднес ее к открытому пламени из печи, в результате чего кровотечение остановилось, а через несколько дней на руке не осталось и шрама. Гурджиев складывал печи, чертил строительные чертежи, проводил оросительные системы, кроил костюмы для танцоров и строил коптильни для сельди — все это в порыве импровизации и из подручных материалов. Он торопил: «Скорее, скорее!», и все, кто был рядом, чувствовали, что нужно пересилить себя и доказать себе, что они способны победить в себе лень, сон, механичность.
После ужина все собирались в Учебном здании, где проходили занятия «движениями». Учебное здание был около тридцати метров в длину и десять метров в ширину и могло вместить в себя до 300 человек. На одном его конце находилось возвышение, напротив возвышения — галерея и ложи. Длинный диван, который тянулся вдоль стен, был покрыт коврами. Потолок был украшен орнаментом, в котором энеаг-рамма была центральным элементом. По углам били фонтаны, а вручную разрисованные окна напоминали витражи. Надписи на стенах гласили: «Помни, что работа не цель, но средство» и «Мы можем только стремиться быть христиана- ми». Корреспонденту лондонской «Daily News» Гурджиев говорил, что заказал для Учебного здания уникальный орган, в котором октавы содержат клавиши для четверть-тонов, что фонтан в центре залы будет каждый час распространять но- вые ароматы и что эти и другие созданные им средства смогут привести в полную гармонию тело и эмоции.
Новые ученики для начала разучивали набор из шести обязательных упражнений. Упражнения эти состояли в сочетании разнонаправленных и проходивших в различных темпах движениях рук, ног и туловища. Джеймс Юнг сравнивал эти упражнения с детской игрой, в которой ребенок шлепает себя одной рукой по голове, в то время как другая его рука массирует живот круговыми движениями. Некоторые упражнения состояли из четырех разных движений, каждое — в своем ритме. Другие — помимо того сопровождались сложным абсурдным счетом (например такой «таблицей умножения» как: 2x1 = 6, 2x2 = 12, 2x3 = 22 и т.п.) или мантрой «Аум». Иногда во время «движений» вместо чисел практикантам давалась тема для эмоциональной медитации, например, «огорчения, которые я доставил моим родителям». Нужно было научиться делать эти упражнения быстро, чтобы присоединиться к работе группы. Кроме этих упражнений много сил и времени уделялось ритмам, исполняемым ногами под музыку, тут же напетую Гурджиевым и импровизируемую де Гартманом. Ритмические движения, как правило, были сложными и неестественными. Иногда Гурджиев пользовался своим знаменитым упражнением «Стоп!» — тогда все замирали в той позе, в которой их заставал окрик Гурджиева. Всякое движение прекращалось. Неподвижность часто в крайне неудобных позах могла длиться пять, десять минут или больше. Все ждали, когда Гурджиев крикнет «Давай!» и можно будет снова начать двигаться. Упражнения сопровождались разъяснениями теоретического характера с рисованием диаграмм «центров» или «движений». Иногда Гурджиев читал лекции, на которые неизменно опаздывал, так что его приходилось ждать часами. Однажды Гурджиева прождали до полуночи, но его все не было. За полночь он приехал из Парижа и прочитал собравшимся лекцию из двух фраз: «Терпение — мать Воли. Если у вас нет матери, как вы можете родиться?» После этого он распустил слушателей. Лекция эта произвела на них глубочайшее впечатление.
Музыка Гурджиева, которую исполнял де Гартман или сам Гурджиев на ручном органе, воспринималась большинством из обитателей шато как музыка сфер. Утверждалось, что его «храмовая музыка» вызывала отклик в высших сферах. Другие считали, что эта музыка пробуждает сущность и непосредственно воздействует на человеческие эмоции, возбуждая радость, сожаление, страх и мощное стремление к «пробуждению». Третьи связывали его музыку с традицией Скрябина или Дворжака. Музыка шла рука об руку с «движениями» и «храмовыми танцами», создавая совместно новый язык гурджиевского учения, столь непохожий на его лекции 1910-х годов в Москве и Петербурге так же, как и на лондонские лекции Успенского, которые во многом воспроизводили форму, давно оставленную Гурджиевым.
Обучение обычно заканчивалось далеко за полночь, так что редко кому удавалось поспать больше трех-четырех часов. По теории Гурджиева, люди, которые спят по семь часов, теряют половину этого времени на некачественный сон, и только глубокий сон, связанный с физической усталостью, длящийся три-четыре часа, приносит человеку настоящий отдых.
Такой ритм создавал сверхнапряжения, срывавшие все психологические защиты и «буферы», с которыми люди живут в обычных условиях. Люди болели. Многие не выдерживали и сдавались: собирали свои вещи и уезжали. Гурджиев никого не удерживал, напротив, часто сам выпроваживал непригодных. Другие погружались в фантазии, жили во сне. Некоторые сходили с ума, были случаи самоубийств. Но общее воодушевление, связанное с «борьбой со сном» было преобладающим настроением. «Вы приехали сюда, — говорил Гурджиев в одной из своих лекций, — бороться с собой и только с собой». И эту борьбу с собой Гурджиев называл истинным христианством. Шла борьба с самим собой, со своим инертным телом и упрямыми эмоциями, с хаотичным блужданием мыслей, борьба, которая означала для многих возрастание уровня бытия, прорыв из времени в вечность, связь с Аккумуляторами Космической Энергии, дающая силу выносить все искусственные тяготы, добровольно взятые на себя состоятельными и интеллигентными людьми. Так решалась задача, как от «желать» и «мочь» перейти к «быть». И борьба эта в ряде случаев приносила чудесные результаты. Один из таких результатов — состояние экстаза, достигнутого в результате перенапряжения, болезни и концентрированных усилий во время упражнений в Учебном доме — описывает Джон Беннетт в своей книге «Свидетель, или история поиска»:
«Гурджиев стоял, внимательно наблюдая за нами. Время потеряло значение до и после. Не было настоящего и будущего, только агония, заставляющая двигаться мое тело. Постепенно я понял, что Гурджиев сосредоточил все внимание на мне. Это было немое требование и в то же время ободрение и обещание. Я не должен был сдаться — даже если это убьет меня. Внезапно я наполнился потоком безграничной силы. Мое тело словно бы превратилось в свет. Я не ощущал его в обычном смысле. Исчезли усилия, боль, слабость, даже вес. Я чувствовал огромную благодарность, обращенную к Гурджиеву и Томасу де Гартману, но они уже тихо ушли, увели с собой учеников и оставили меня одного».
Подобные переживания испытывали многие, и они оставались самыми высокими пиками состояний до конца их жизни. Такие переживания были для них невозможны в обычных условиях их жизни и без Гурджиева, на котором все держалось. Вообще вся жизнь в шато Приер, весь ее безумный и искусственный ритм держались на его железной воле и целенаправленной деятельности, на его знании, чего он хочет, и знании человеческой природы. Все работало против механистичности, против сна, против отождествления, и каждый человек был поставлен в ситуацию «борьбы против себя». Гурджиев только помогал людям в этой борьбе, создавал для нее наилучшие и единственные в своем роде условия. Так, Морису Николлу было запрещено читать, человеку, боявшемуся крови, было поручено резать животных для еды, все занимались черной работой, часто не имевшей никакого смысла, кроме единственного — «борьбы против себя». Это и было сознательное страдание — добровольное погружение в то, против чего восставала механическая
природа человека. Это добровольное страдание поддерживалось надеждой выйти из круга повторений — беличьего колеса, в котором кружатся все люди, освободиться от фальши и стать самим собой, а не тем, каким человек себя представляет. «Знаете ли вы, — спросил как-то у Гурджиева один из его гостей, французский писатель Денис Сара, — что некоторые из ваших учеников близки к отчаянию?» «Знаю, — ответил Гурджиев, — в этом доме есть что-то зловещее, и это необходимо».
В субботние вечера шато Приорэ преображался. Там принимали гостей и устраивали для них показательные выступления. Готовился праздничный стол, и Гурджиев развлекал гостей. Гости попадали в волшебный мир загадочных декораций, дервишеских танцев и музыки сфер — роскоши и изыска для вкуса, зрения и слуха. Кроме того, в 1923 году было организовано несколько демонстраций «движений» и танцев в Париже—в театре на Елисейских полях и в ряде других театров. Французские, английские и американские газеты публиковали сенсационные рассказы о «лесных философах», о «новом культе» и о «черном маге», который управлял покорными овцами, гипнотизируя мужчин и женщин из общества, опустошая их кошельки и заставляя их работать по 12 часов в сутки в условиях, на которые не согласился бы ни один уважающий себя рабочий. Гурджиев искал популярности у публики и приглашал для участия в своих представлениях фокусников, перемежая их номера с исполнением «священных танцев» и «религиозных церемоний». Присутствовавший на этих представлениях Успенский, еще с Ессентуков испытывавший смешанные чувства по отношению к своему учителю, видел ненатуральность этой новой роли Гурджиева — роли фокусника и балетного импрессарио — и мучительно пытался определить линию своего отношения к тому, что делал в это время Гурджиев.
Между тем финансовые заботы не оставляли Гурджиева, который вынужден был искать дополнительные доходы для поддержания жизни в шато Приер. Обычные обитатели платили за пребывание в шато по семнадцать с половиной фунтов стерлингов в неделю с человека, а те, кто занимал роскошные спальни второго этажа или приезжал к Гурджие-ву лечиться, платили по сорок фунтов. Этих денег Гурджиеву явно не хватало, тем более, что половину обитателей шато составляли эмигранты из России, которые не могли за себя платить и целиком зависели от его милости. В 1923 году Гурджиев выписал из Александрополя свою семью: мать, сестру и брата, которые поселились в шато. Гурджиеву пришлось снова заняться нефтяным бизнесом, войти в долю двух ресторанов на Монмартре, кроме того, он занимался целительством, «психотерапией» и лечением пациентов от наркомании и алкоголизма. Но денег все равно не хватало.
Его поездка в Америку в 1924 году стала одной из попыток выйти из неразрешимой финансовой ловушки, в которой он оказался, и разведкой боем новой территории для своей деятельности. Он поехал туда с большой труппой, с огромной помпой, на гигантском атлантическом лайнере, после того как визит этот был широко разрекламирован международной прессой, в ожидании больших денег, большого успеха и тысяч новых последователей из Нового света, которые дадут ему возможность говорить непосредственно со всем человечеством, исказившим естественные пути и утратившим свою сущность, и сделают его самым нужным человеком на земле.
После отъезда Гурджиева Успенский вернулся в Лондон и собрал своих лондонских учеников. Он сказал им: «Я попросил вас прийти, чтобы сообщить, что решил порвать все отношения с мистером Гурджиевым. Вы можете уйти и работать с ним или остаться со мной. В последнем случае вы должны пообещать, что не будете тем или иным способом общаться с Гурджиевым или его учениками».
На вопрос о причинах такого резкого разрыва Успенский ответил: «Мистер Гурджиев — человек экстраординарный, и его возможности превышают таковые каждого из нас. Но и он может ошибаться. Он сейчас переживает кризис, последствия которого невозможно предвидеть... Сейчас, в разгар битвы, находиться рядом с ним крайне опасно... Он может сойти с ума или навлечет на себя несчастье, в котором пострадают все окружающие».
Вскоре после этого, вернувшись из Америки во Францию, Гурджиев попал в аварию: он врезался в дерево, возвращаясь на автомобиле из Парижа в Фонтенбло на огромной скорости.
Разрыв между учеником и учителем
Ч.С.Нотт со слов своего приятеля Ф.С.Пиндера сообщает, что после своего визита в Лондон в феврале 1922 года Гурджиев совершил еще одну поездку туда той же зимой, взяв с собой Пиндера как переводчика. На встрече с учениками Успенского Гурджиев смутил их тем, что, обернувшись к Успенскому, разделал его в пух и прах. Успенский слишком рассудочен, сказал Гурджиев, если он хочет что-либо понять, он должен начать с азов и «работать над собой». В другой раз, во время визита Успенского в Фонтенбло, Гурджиев использовал Пиндера как переводчика своей лекции в Учебном доме. Когда Успенский не согласился с некоторыми местами пиндеровского перевода, Гурджиев резко его оборвал: «Пиндер переводит для меня, а не для тебя!»
Пиндеровско-ноттовская версия причины разрыва Гурджиев и Успенского состояла в том, что Успенский не понимал внутреннего смысла учения Гурджиева. Оба они считали, что Успенский был религиозным философом школы Владимира Соловьева и был намерен любой ценой основать свою собственную школу со своими учениками. Нотт вообще верил в то, что поездка Гурджиева в Лондон зимой 1922 года окончательно определила их разрыв. Он вспоминает слова Гурджиева, сказанные им на обратном пути в поезде: «Сейчас им придется выбирать себе учителя».
Пиндеровско-ноттовский подход основан на обличении Успенского как «лентяя» и «вора». Нотт писал об Успенском следующее: Успенский был писателем, когда он встретил Гурджиева, и он остался писателем, «укравшим» материал Гурджиева и создавшим из него «систему», хотя материал этот не предполагался быть систематизированным и даже быть публичным. Успенский, утверждал Нотт, относился к тем людям, кого Гурджиев называл «хаснамуссами», т.е. людям без совести и каких-либо принципов. Кроме того, по словам Нотта, у Успенского была нелюбовь к «движениям», и он отказывался от них как от непродуктивных.
Другие авторы видели в Успенском человека, не выдержавшего экзамена, которые ему дал Гурджиев. Он, дескать, не мог выдержать гурджиевских насмешек над его рассудочностью и гордыней. Многие тем не менее симпатизировали Успенскому: «шоки» Гурджиева были порой недопустимо грубыми, а Успенский был мягким человеком, чье самолюбие могло быть задето любой из гурджиевских шуток. Частью гурджиевской дисциплины были нападки на учеников: Гурджиев обрушивал на них обвинения, которые для них были крайне неприятными и которых они в данный момент не могли вынести и даже понять. Трудно представить, как далеко это могло заходить, и здесь безусловно бывали трагические случаи. Тут мог быть простой конфликт между понятиями и ценностями Успенского — которых он сам мог не сознавать — и сознательными действиями его непредсказуемого учителя. Возможно, со стороны Гурджиева имели место какие-то аморальные, непростительные или даже преступные действия, которых Успенский был свидетелем и которые он не мог принять.
Однако тот факт, что Гурджиев сознательно инициировал разрыв и с де Гартманом, и с Оражем, противоречит мнению Пиндера—Нотта. Разрыв с ним Успенского мог быть как раз тем, чего хотел Гурджиев, а не результатом какой-либо вины или недостатков Успенского. Первый раз Успенский разошелся с Гурджиевым в Ессентуках, но воссоединился с ним в Константинополе и возобновил совместную работу в Лондоне и Париже. Возможно, вплоть до середины 20-х годов Успенский не научился стоять на своих собственных ногах или, может быть Гурджиев добивался окончательного отхода от него Успенского, чтобы помочь ему обрести самостоятельность? Сам Успенский, по некоторым признакам, понимал эту оценку мотивов Гурджиева. Он писал, что Гурджиев несколько раз приглашал его приехать жить а Фонтенбло в период между покупкой Фонтенбло и возвращением из Америки. «Это было большое искушение», — говорил впоследствии об этом приглашении Успенский. Слово «искушение» обычно применялось Гурджиевым (и вслед за ним Успенским), когда речь шла о сознательном обмане, который практиковался в «эзотерических школах» для проверки учеников. Ораж и де Гартман позже были также поставлены перед подобным «искушением». Успенский сделал тот же вывод, что и два других: разрыв должен быть полным. Он вернулся в Лондон из Франции после отъезда Гурджиева в Америку и сказал тем, кто хотел с ним работать, что его «работа в будущем будет абсолютно независима и будет проводиться так, как она велась... в Лондоне с 1921 года».
В строгой и доктринально фиксированной атмосфере лондонских групп Успенского «Г» (так отныне среди лондонских учеников Успенского именовался Гурджиев) стал считаться несуществующим, хотя Успенский никогда не отрицал, что то, чему он учил, было получено им от этого «Г». В ряде случаев Успенский повторял то, что сказано в книге «В поисках чудесного» о разрыве с мастером. Во всяком случае, справедливым представляется мнение, что Успенский должен был порвать с Гурджиевым оберегая то, чему он научился у последнего, а не выступая против этого.
В книге «В поисках чудесного» Успенский подчеркивает разницу между человеком Гурджиевым и идеями Гурджиева. Ораж также делал это различение. Успенский писал: «Я ясно видел в это время, что я ошибался относительно многих вещей, которые я приписывал Г.» И хотя «тот, кто знает» и «от кого было получено учение», знал еще очень много, в трактовке Успенского он теперь выглядел менее привлекательным, чем прежде.
Идея совершенного мастера пришла к Успенскому из теософии. Успенский посвятил значительную часть своей жизни поиску высшей породы человечества, людей высшего типа. «Живой сверхчеловек настоящего времени... сообщает душам высший принцип, — писал Успенский в книге «Внутренний круг. О последней черте и о сверхчеловеке», опубликованной в Петербурге еще 1913 году. — Когда человек начинает искать сверхчеловека вовне, он находит его внутри себя». Очевидно, Успенский хотел видеть в Гурджиев представителя сверхчеловечества. Общение с реальным сверхчеловеком Гурджиевым обратило его к сверхчеловеку в самом себе — к своим высшим возможностям, к своему высшему «я», которое он должен был отстаивать в трудные годы революции, Гражданской войны и эмиграции.
Разорвав с Гурджиевым в 1918 году, Успенский обратился к своим старым интересам и к «поискам чудесного». То же произошло с ним после окончательного разрыва с Гурджиевым, когда он снова вернулся к работе над сводом своих идей — «Новой моделью Вселенной». Когда в 1931 году вышла эта книга Успенского, он заметил Кеннету Волкеру, что с ее помощью он надеется установить связь с «эзотерическими школами».
Возникает вопрос: чем, по мнению Успенского, была его учеба у Гурджиева? Ораж называл шато Приорэ эзотерической школой, хотя сам Гурджиев неоднократно говорил, что это лишь внешнее кольцо некоего оккультного центра. Очевидно Успенский не захотел примириться с расколом между учителем и учением, и образ эзотерической школы был разрушен для него, когда был разрушен образ его учителя. Успенский принял решение и порвал с Гурджиевым, считая, что для такого разрыва у него достаточно оснований. Однако еще около тридцати лет ему предстояло нести в себе груз этого разлада, и только перед самой своей смертью в 1947 году он сумел сбросить его с себя окончательно.
В феврале 1923 года, когда лондонская газета Daily News интервьюировала Успенского, тот спокойно говорил: «Гурджиев и я достигли теперешнего состояния в результате долгой и трудной работы в далеких странах». Интервьюировавший его журналист добавлял: «В Гурджиеве он (Успенский— А.Р.) нашел родственную душу — человека, который пошел дальше по определенному пути». В этом интервью Успенский определенно констатировал, что идет с Гурджиевым разными путями и что их путь совпал только на небольшом отрезке, но «Гурджиев пошел дальше по определенному пути». Целью Успенского было достижение космического сознания и выход во вселенную множества измерений. Гурджиев же утверждал: «Учение само по себе не может иметь никакой цели. Оно может только показать путь человеку, который ставит перед собой определенную цель». Успенский принял решение и разорвал с Гурджиевым, считая, что для такого разрыва у него достаточно оснований.
Успенский соединял в одно целое свои идеи и идеи Гурджиева. Он и его ученики оказались втянутыми в эту двойственную систему. Однако, оставаясь человеком, для которого то, что он получил от Гурджиева, заслонило результаты его собственных поисков (если не считать умозрительных теорий его «Новой модели Вселенной»), он должен был продолжать учить своих учеников идеям Гурджиева и, с другой стороны, заниматься вместе с ними «поисками чудесного». Много лет он основывал свою деятельность на мнении, что идеи системы были истинными, но источник (Гурджиев) был загрязненным. Следовательно, нужно было искать источник, из которого сам Гурджиев получил свою систему.
В частном разговоре 1924 года Успенский со стоическим пессимизмом отвечал на восторженное утверждение Джона Беннетта, что система может привести к «сознанию и бессмертию»: «Вы говорите, что уверены, что работа может привести к сознанию и бессмертию. Я в этом не уверен. Я ни в чем не уверен. Но я знаю, что у нас нет ничего, и поэтому нам нечего терять. Для меня это не вопрос о надежде, а вопрос об уверенности в том, что нет другого пути. Я слишком много испробовал и слишком много видел, чтобы во что-то верить. Но я не отказался от борьбы. В принципе я верю, что возможно достичь того, что мы ищем, но я не уверен, что мы нашли путь. Однако бесполезно ждать. Мы знаем, что у нас есть что-то, полученное из Высшего Источника. Возможно, что что-то еще придет из того же Источника».
Успенский не только отделил человека-Гурджиева от идей Гурджиева, он отделил свои собственные надежды от системы Гурджиева. Публично он никогда не критиковал своего учителя, но в частных разговорах он говорил о некорректном поведении Гурджиева в рамках гурджиевских понятий. Осенью 1935 и затем в октябре 1937 года он уточнил свой подход к этому вопросу. В самом начале, сказал он, Гурджиев предложил три принципа работы, которые вступили в противоречие с его последующим поведением. Первый: человек не должен делать ничего без понимания того, что он делает. Второй: ничто не брать на веру, но проверять каждое утверждение учителя своим собственным опытом. Третий принцип: лидер не должен вызывать в своих учениках поклонение. Успенский прямо заявил, что в Ессентуках Гурджиев пренебрег всеми тремя принципами, требуя и принимая веру, слепое послушание и поклонение со стороны своих последователей. Этим он нарушил договор, который связывал с ним его учеников, и изменил самому себе.
Помимо моральных претензий к поведению Гурджиева Успенский называл другую причину своего разрыва с Гурджиевым: Гурджиев начал принимать в работу людей, абсолютно непригодных для работы. Успенский сказал, что помощь, которую он оказал Гурджиеву в 1922 году, была последней проверкой того, что выйдет из того направления работы, которое выбрал Гурджиев. С самого начала у него были большие сомнения по поводу Института в Фонтенбло. Он собрал для Гурджиева деньги и посылал к нему людей с ожиданием провала. Деятельность этого Института он считал провалом. Все эти объяснения были достаточно умеренными и походили на информацию для внешнего пользования. Внешняя лояльность Успенского по отношению к Гурджиеву была экстраординарной, и только в узком круге он позволял себе большую свободу выражений.
Джеймс Вебб, в свойственном ему стиле драматизации и преувеличений, представляет отношения между Успенским и Гурджиевым как мистическую схватку — борьбу магов. Но кто же из них «черный маг»: «вор» Успенский или развратное чудовище Гурджиев? Ситуация оказывается сложнее, чем она представлялась ее пристрастным оценщикам. И здесь Джеймс Вебб предлагает неожиданный ключ к решению запутанного вопроса о взаимоотношениях «двух магов»: новую информацию об их подлинных взаимоотношениях. По мнению Вебба, хотя в 1923 году Успенский утверждал, что разрыв с Гурджиевым был полным, он продолжал встречаться с ним время от времени. Он часто ездил в Париж, где под наблюдением баронессы Рауш де Траубенберг переводились его книги «Новая модель Вселенной» и «В поисках чудесного», и этот повод для поездок Успенский использовал для того, чтобы скрыть свои контакты с Гурджиевым от своих учеников. Гурджиев не менее Успенского был заинтересован в сокрытии этих контактов от поселенцев шато Приер. Маргарита Андерсен была удивлена, когда обнаружила Успенского в Фонтенбло весной 1924 года после того, как разрыв между ними уже произошел. Успенский был там снова на похоронах жены Гурджиева мадам Островской в 1926 году. На протяжении 1920-х годов Успенского видели в Фонтенбло и в ряде других случаев. Гурджиев не желал, чтобы Успенский общался с его учениками, и принимал его за закрытыми дверями. Впрочем, отмечает Вебб, здесь не исключены были и промахи в их конспирации.
По сведениям Джеймса Вебба, последний раз Успенский был в Париже в 1931 году. На этот раз Гурджиев не подпустил его близко, и они встретились в кафе «Генри IV» в Фонтенбло. Эта встреча обозначила окончательный разрыв в большей мере, чем их видимый разрыв в 1924 году. С этого времени Успенский открыто и горько выражал свое разочарование в Гурджиеве. Он говорил о гурджиевском «провале» как о катастрофе более серьезной, чем русская революция. Одному ученику, задавшему ему вопрос о Гурджиеве, он сказал: «Видите ли, он просто сошел с ума».
Другая сложность создавалась ролью жены Успенского Софья Григорьевна в этом конфликте. Вообще брак Успенского был не совсем обычным. Когда в 1921 году Успенский впервые поехал в Лондон, жена его не поехала с ним. До 1924— 1925 гг. она жила в шато Приер. Затем Гурджиев отослал ее в Англию, сказав ей, что она нужна мужу. Мадам Успенская покинула Фонтенбло, но не поехала в Англию, страну, которую она не любила, а сняла квартиру в Азниере под Парижем. Позже Софья Григорьевна установила деловые отношения со своим мужем: некоторые из его лондонских учеников ездили в Париж по вопросу перевода его книг и составили парижскую группу под руководством мадам Успенской.
Когда в 1927 году мадам Успенская отважилась приехать в Англию — в первый раз она приехала только на короткое время летом, — отношения между супругами оставались деловыми и холодными. В Англии мадам Успенская постепенно взяла в свои руки всю организационную сферу работы своего «мужа», устроив ее на манер гурджиевского Фонтенбло. Она всегда говорила, что ее учителем является Гурджиев. В сельских коттеджах, где им приходилось жить вместе с учениками, у них всегда были отдельные комнаты.
Однажды они сняли дом в Верхнем Викомбе, другой раз — в Тросли в Кенте, а в 1930 году большое количество учеников съехалось в дом в Вендовере. В этих сельских поселениях главной ролью мадам Успенской было в бесцеремонной гурджиевской манере нападать на предрассудки и «образ себя» у учеников Успенского, иными словами, создавать необходимое напряжение для применения принципов работы, которые подчеркивал и Успенский. Она открыто общалась с Гурджиевым: Нотт и мадам де Зальцман служили ей в этом общении курьерами. Успенский, как и его жена интересовавшийся историями из шато Приер, по воспоминаниям учеников, закрывал глаза на «гостей» от Гурджиева к мадам Успенской.
Джеймс Вебб настаивает на том, что «разрыв» между двумя мастерами был предметом их общей договоренности, как, возможно, это было и у Гурджиева с Оражем. Это был спектакль и, по мнению Вебба, скорее всего не для непосредственных их учеников, а для будущих историков. Коллизия «битвы магов» создает мистическое напряжение — ив балете, и в жизни. Этот сюжет неоднократно разыгрывался в древних священных историях, трагедиях и посвятительных драмах. Здесь, по мнению Вебба, тоже был разыгран спектакль, который должен был стать основой новой сакральной драмы. Согласно этой точке зрения, не исключено, что еще в российские времена Успенский мог взять на себя задачу персонификации и объективации тех трудностей, которые возникали у Гурджиева с его учениками в связи с его методом. Такая роль могла иметь видимость коварства, воровства и предательства. Не исключено, что Успенский мог видеть себя Иудой в отношении Гурджиева—Христа, каким его видел и как его трактовал Гурджиев.
В «Рассказах Вельзевула» Гурджиев утверждал, что общепринятый взгляд ни Иуду абсолютно ошибочен. По его мнению, на самом деле Иуда был ближайший и наиболее преданный ученик Христа. То, что Иисусу предстояло умереть, знали все его ученики: это был необходимый элемент в той драме, которая должна была быть сыграна. Без Иуды, который знал, что он войдет в историю как предатель, и который добровольно принял эту роль, драма не могла прийти к своему необходимому завершению.
Любимым ругательством Гурджиева для учеников, которые начинали сами учить других, было «Иуда Искариот». Успенский был типичный «Иуда Искариот», на котором Гурджиев опробовал свои укусы. Если оба они участвовали в этой драме, не исключено, что Успенский был и оставался ближайшим и вернейшим учеником Гурджиева, несмотря на всю видимость конфликта.
Успенский мог считать, что Гурджиеву нужен противник, и мог сам дать Гурджиеву эту идею и этот план. Незадолго до своей смерти Успенский сказал одному ученику непонятную фразу: «Она поймет (он не сказал, кто и что поймет), если она читала "Листки старого дневника"». Речь идет о шеститомной истории теософского движения Г. С. Олькотта, и, возможно, разгадка лежит в самом начале первого тома, в предисловии к этой книге, где автор раскрывает причины своего творческого намерения:
«Главный импульс для написания этих страниц состоял в желании бороться с усиливающейся тенденцией в Обществе обожествлять мадам Блаватскую и придавать ее обыкновенным литературным опытам квазиинспирационный характер. Ее очевидные недостатки были просто незамечаемы, и законная критика ее поступков была запрещена. Те, кто меньше всего мог похвастать ее доверием и кто меньше всего знал ее истинный характер, были главными двигателями в этом направлении. Слишком ясно, что если я не скажу то, что знаю я один, истинная история нашего движения никогда не сможет быть написана и не смогут стать известны и подлинные заслуги моей чудесной коллеги».
Но, может быть, продолжает Джеймс Вебб, причина лежала в обоих: в квалификации Успенского Гурджиевым как «слабого человека», и в нападках Успенского на «паранойю» Гурджиева. Они могли бросать друг в друга комья грязи, думая, что они действуют на благо друг друга. Не исключено, что первоначальный план, если такой и существовал, был искажен обоими, что оба они увлеклись своими ролями. Гурджиев стал обличителем своего ошибающегося ученика, а Успенский — разочарованным учеником. И хотя в книге «В поисках чудесного» Успенский соглашается с гурджиевской интерпретацией образа Иуды, в «Новой модели Вселенной» он совершенно по-другому истолковывает это образ, видя в Иуде человека незрелого, случайно оказавшегося рядом с Христом и не вынесшего напряжения его высокого присутствия. И Успенский настаивал на своем прочтении коллизии: Христос—Иуда Искариот. Такова интерпретация разрыва Гурджиева и Успенского, предложенная и тщательно разработанная Джеймсом Веббом.
Правильный учитель и правильный ученик
Главная трудность понимания идеи пути, по Гурджиеву, заключается в том, что очень трудно понять, что «путь начинается на значительно более высоком уровне, чем жизнь», ибо там, где начинается путь, кончается царство случая и вступает в силу закон судьбы. «Учитель, — говорил Гурджиев, — всегда соответствует уровню ученика: чем выше ученик, тем выше оказывается учитель». Чтобы быть учеником Иисуса Христа, напоминал он своим слушателям азбучные духовные истины, надо находиться на уровне апостолов. Но в жизни, констатирует он, человек, «не стоящий и медного гроша», желает иметь учителем самого Иисуса Христа, не понимая, что не может возникнуть резонанса между таким человеком, как он, и таким высоким учителем, как Иисус.
Гурджиев напоминал, что «закон восхождения человека» основан на соблюдении нескольких законов в отношениях «учитель—ученик»: а) ученик не может знать уровня своего учителя, ибо никто не в состоянии видеть выше своего уровня; б) ученик не слишком высокого уровня не может рассчитывать на учителя очень высокого уровня; в) если расхождения в уровнях учителя и ученика превосходят определенную границу, трудности на пути ученика становятся непреодолимыми; г) учитель необходим для ученика, и ученик необходим для учителя; д) ученик не может идти вперед без учителя, и учитель не может идти вперед без ученика;
е) нравственный парадокс учительства: отдай то, что получил, и обретешь больше, — иначе лишишься того, что тебе уже дано; и, наконец, ё) кто выше — тот и учитель.
Гурджиев разъяснял, что достижение «первого порога», или встреча ученика — человека, который «ищет путь», — с учителем — человеком, стоящим на пути, — возможна только после создания в ученике магнитного центра. На этом этапе важна правильность кристаллизации магнитного центра, формирование которого зависит от таких факторов, как: а) условия жизни ищущего, б) складывающиеся обстоятельства, в) силы его магнитного центра, г) силы его внутреннего тяготения к поискам пути.
Чтобы магнитный центр работал полноценно, необходимо, чтобы он а) получал достаточно питания, б) не встречал сильного противодействия со стороны других аспектов личности человека и в) оказывал правильное влияние на ориентацию человека. Иначе, предупреждал Гурджиев, поиски пути могут занять много времени и ни к чему не приведут.
При правильной работе магнитного центра и при серьезности намерений со стороны ищущего, уточнял Гурджиев, даже если его поиски и не очень активны, но он «правильно чувствует», тот, кто «ищет путь», может встретить человека, «который знает путь и готов ему помочь».
Именно на этом этапе и произошла знаменательная встреча Успенского с Гурджиевым, после которой Успенскому хотелось смеяться и прыгать, как ученику, удравшему с уроков. Гурджиев определял этот этап в работе как выход ищущего из-под власти закона случая и превращение его в человека, жизнь которого начинает определяться законами судьбы. Восприятие ищущим сознательного влияния третьего рода (влияния «работы») Гурджиев сравнивал с прохождением по лестнице, которая отделяет жизнь от «пути»: «Человек может вступить на путь лишь пройдя по "лестнице"» . На этом этапе он не может обойтись без помощи руководителя. Сами его достижения неустойчивы, «даже если он поднялся по лестнице достаточно высоко» — он может оступиться и оказаться в позиции, с которой он начал свое движение и в одно мгновение утратить все плоды своей работы. Несмотря на любого рода сомнения в руководителе, на этом этапе ученик не может обойтись без него, без его знаний и силы.
Период ученичества Успенского у Гурджева был, используя понятия последнего, временем преодоления разрыва между жизнью и «путем». Словно читая сомнения Успенского на этом и последующем этапах его жизни, Гурджиев заранее определил для него весь спектр мучивших его вопросов и сомнений по поводу учения и учителя.
На вопросы о правильном и ложном пути, правильном и сомнительном учителе, словно бы дразня Успенского, Гурджиев отвечал в свойственной ему парадоксальной манере: «Распознать ложный путь, не зная правильного, невозможно. А это значит, что не стоит беспокоиться по поводу того, как распознать ложный путь. Нужно думать о том, как найти правильный путь: именно об этом мы все время и говорим».
По поводу рассуждений о качестве учителя и о характере его связи с эзотерическим центром Гурджиев с самого порога отвергал способность ученика судить об этом, поскольку в большинстве своем, объяснял он, люди начинают свои поиски с того пункта, «когда им известна только одна ступень выше их уровня. И только по мере собственного развития они начинают видеть дальше и узнавать, откуда пришло то, что они знают».
Человек, «принявший на себя роль учителя», — продолжал развивать эту тему Гурджиев, — может знать путь прямо или косвенно, он может быть связан с «центром, из которого исходят создавшие магнитный центр идеи или получать их от человека, владеющего этими знаниями. Главное не в том, откуда пришло знание, а в том, чтобы идеи, с которыми работает учитель, действительно — Успенский выделил курсивом слово, которое Гурджиев выделил интонационно, — исходили от эзотерического центра и чтобы учитель умел различать формирующие магнитный центр эзотерические идеи от просто философских и научных.
Словно ведя прямой разговор с Успенским и адресуясь непосредственно к его пока не высказанным сомнениям, Гурджиев говорил о случаях неправильного формирования магнитного центра, при которых в нем оказываются непреодоленными противоречия или когда в него включены искаженные влияния второго рода (влияния от философии, религии, искусства) или даже — первого рода (влияния от «сырого» потока жизни) под маской влияний второго рода. «Такой неправильно сформированный центр не способен дать правильной ориентации», — предупреждал Гурджиев одного из самых любимых своих учеников, имея в виду его пристрастие к логическим спекуляциям. Не случайно именно Успенского попросил он повторить идеи о связи магнитного центра и пути. И не случайно именно Успенский рисовал ему диаграмму, в которой рядом с истинным учителем, сознательно передающим влияния третьего рода и связанным с эзотерическим центром, как призрак, возникает «человек, обманывающий себя или других и не имеющий прямой или через посредника связи с эзотерическим центром», — тема следующего драматического этапа их отношений. Ведь не секрет, что полнотой и последовательностью раскрытия основных головокружительных концепций Гурджиева мы обязаны именно Успенскому. Здесь, как нигде в другом случае, наглядной оказалась мысль Гурджиева о прямой связи и взамозависимости между человеком пути и искателем — «учитель всегда соответствует ученику: чем выше ученик, тем выше оказывается учитель». И не случайно именно на московский период — период сближения Успенского с Гурджиевым пришлась вся интеллектуальная нагрузка и полнота выражения идеи «четвертого пути».
Подводя итог сказанному, можно перечислить рассмотренные различными авторами причины разрыва Успенского и Гурджиева. Среди них называют:
а) разрушительное влияние на Успенского созданной Гурджиевым атмосферы, отсутствие пространства рядом с Гурджиевым для его самостоятельной работы;
б) нежелание «загрязненного источника» - Гурджиева, которого Успенский называл «загрязненным источником», терпеть рядом с собой сильного человека с устойчивыми нравственными критериями;
в) неспособность Успенского подвергнуться трансформационным процессам и подняться по «лестнице» к пути;
г) разрыв был спровоцирован Гурджиевым для развития самостоятельности Успенского;
д) столкновение или сговор «двух магов».
Наиболее вероятной причиной разрыва представляется сочетание первых трех факторов: нежелание Гурджиева видеть рядом с собой человека со строгими принципами и правилами, которые Успенский распространял также и на Гурджиева и которые неизбежно ограничивали свободу проявлений последнего; стремление Гурджиева подчинить все стороны жизни и «работы» своему единоличному контролю и отсутствие рядом с ним места для самостоятельной работы. Другие, беря сторону Гурджиева, видели причину разрыва в неспособности и нежелании Успенского идти по пути, который предлагал ему Гурджиев и который означал полную отдачу себя учителю. Разрыв был спровоцирован Гурджиевым, который извлек из него для себя двойную пользу, ибо Успенский, не мешая ему, продолжал издали искренне служить Гурджиеву. Для Успенского этот разрыв обернулся десятилетиями неуверенности, сомнений и ожиданий.
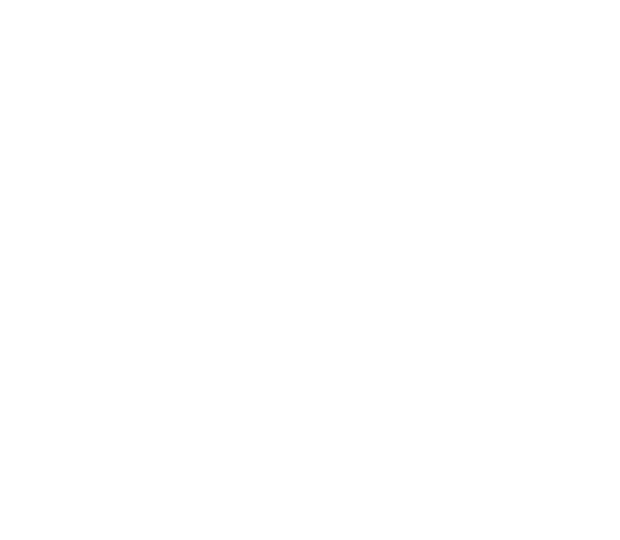
Гурджиев и Успенский
Жизнь и учение Г. Гурджиева и П. Успенского. 2006 г.
Жизнь и учение Г. Гурджиева и П. Успенского. 2006 г.
Издательство: Старклайт, Номос
Год издания: 2006
Страниц: 416
Формат: 14.5 x 21.5 см
Обложка: твердая
ISBN: 5-9633-0008-8, 0-922792-78-Х
Год издания: 2006
Страниц: 416
Формат: 14.5 x 21.5 см
Обложка: твердая
ISBN: 5-9633-0008-8, 0-922792-78-Х
Книга поэта, прозаика, мистика Аркадия Ровнера посвящена жизни и учению легендарного основателя «четвертого пути» Г. Гурджиева и его самого знаменитого ученика П. Успенского. Головокружительные концепции вечного возвращения и эзотерического христианства, путешествия Гурджиева и Успенского на Восток в поисках утраченного знания, их встреча и последующие годы учительства и ученичества, наконец, работа героев книги с последователями «четвертого пути» в разных странах — вот далеко не полный перечень тем, затрагиваемых автором.