АРКАДИЙ РОВНЕР
Феодор и радость
Рассказ из книги
«Пеленание предка»
«Пеленание предка»
Сегодня, две с чем-то тысячи лет спустя, трудно даже вообразить, как вдруг все опустело, как осиротела жизнь после того, как Наставник выпил яда. Он еще немного поговорил, а потом лег на шкуру и закрыл глаза — тело его стало свинцовым и никому не нужным. Так он и лежал в углу немой и опустошенный, и ученики с ужасом смотрели на него, не шевелясь, не говоря ни слова. Неясно, сколько прошло времени — час, два или пять. Пришла молча жена, привела с собой рабов, которые так же молча положили его на носилки и унесли домой. Никто из учеников не тронулся с места, все были уверены, что его душа улетела в туманные пространства, а похороны его бренных останков — дело семейное, их мало касающееся. Поэтому, когда его унесли и камера опустела, не прощаясь, все разошлись по домам и постарались забыть друг о друге как можно быстрее.
И действительно, что у них было общего теперь после его смерти? Что он им такого оставил, что бы их объединило? Слова, которыми он их столько лет завораживал? От них остался лишь неясный привкус какого-то фокуса, шутки. Зато сословная рознь сразу стала всем видна, когда они расходились. Одних в дверях встречали рабы и носилки, и они садились на надушенные подушки и опускали плотный полог с тяжелыми кистями, других ждали родственники или друзья, которые набрасывали им на плечи мантии, целовали их и, обняв за плечи, уводили подальше от этого мрачного места, иные же уходили сами, надвинув на головы серые капюшоны, и исчезали в вечернем тумане, как будто бы их и не было.
Пока Наставник был жив, невидимый мир, созданный им, был прекрасен и праздничен. Что-то творилось вокруг него, для чего у них не было слов. Он говорил, он жил, он ни с кем не считался, разве что со своим демоном, ходил туда-сюда, приставал к прохожим с разговорами, дразнил их иронией, которую сразу и не раскусить, и рассуждениями, которые казались поначалу такими немудрящими. Уверенный и спокойный, стоял он в своей хламиде на базарной площади, залитой полуденным солнцем, среди мешков и горшков, беседуя с каким-нибудь олухом из Пиреи или Ларисы о ценах на оливки и скот, о его тяжбе с соседом, о местном суде — о чем угодно. А вокруг шумел базар, около торговцев свежей рыбой и зеленью суетились повара и всякий кухонный люд, их сопровождавший, сновали носильщики с плетеными корзинами, и как-то слишком неуместно толпились его ученики, следя за рассуждениями Наставника, дивясь искусству, с которым он вел за своей мыслью неискушенного прохожего и выводил его на такие высоты, в такие немыслимые сферы, что дух захватывало. Так же непринужденно он вел себя на пирушках, никого не удручал своей ученостью, пил за троих и не пьянел и лишь становился спокойней. А как заботливо он говорил со своей женой, ну прямо как с ребенком, и она его слушала и следовала за ним вместе с его учениками. Казалось, какая-то его часть в наших земных делах не участвовала, а где-то высоко и радостно жила, и вот она-то и влекла к нему окружающих. Он мог вдруг замолчать и уйти на долгие часы в себя в самом неурочном месте и в самое неподходящее время. Тогда ученики оставляли его одного, догадываясь, что он беседует со своим демоном и что ему не нужно мешать. А потом он снова появлялся на базаре или на пирушке, и они снова слушали и учились, хотя, кажется, чему можно было у него научиться?
Дело в том, что у Наставника не было никакого учения. Окруженный людьми разных возрастов и мнений, не говоря уж о различиях в их общественном положении, он беседовал с ними о вещах, которые их интересовали. С одним он говорил о политике, с другим — о науках, с третьим — о законах, с четвертым — о поэзии. Одним он внушал какие-то мысли, другим доказывал всю несостоятельность их мнений. Позже некоторые из них стали основателями собственных школ или — его врагами.
Многие не любили Наставника за его независимость и за то, что за ним толпами шли ученики, среди которых были юноши из родовитых семей и дети чиновников, хотя больше всего было среди них провинциалов, которые стекались к нему из самых далеких окраин и из-за моря. Один мегарец по имени Евклид (не путать с Евклидом из Сиракуз) в те времена, когда в Афинах всех мегарцев без разбора кидали в тюрьму и приговаривали к смерти, переодевался гулящей девкой и проходил через городские ворота ночью для того, чтобы слушать его речи. Расстояние до Мегар около 40 километров, однако он был готов одолевать этот путь и рисковать головой. Он был из тех немногих, кто оставался с Наставником до конца, до чаши с ядом.
Официальный процесс против Наставника начался из- за неприязни к нему Мила. Мил также был когда-то его последователем, однако отличался большими амбициями. У таких восторг ожидания быть по достоинству оцененным быстро сменяется на раздражение и ненависть, когда их ожидания не сбываются. Так и здесь, увидев прущее из него тщеславие, Наставник имел неосторожность усмехнуться на одну из его высокопарных реплик. После этого уничтожить Наставника стало всепоглощающей страстью Мила. Он стал собирать вокруг себя недовольных Наставником, главным образом родителей знатных учеников и вообще людей влиятельных, которых все боятся. Мил своего добился — Наставника приговорили к смертной чаше «за развращение юношества». Еще бы, ведь он учил добродетели и был человеком, отрешенным от мирских попечений, кого же еще осудить за разврат!
Таким был Наставник, самоуверенным, деятельным, непокорным. Одних он притягивал, других раздражал — никто не оставался равнодушным. Умными рассуждениями он развенчивал самый ум, и за этим ненужным больше умом каждый видел то, что он один мог увидеть. Одни видели за его словами неясные очертания новой религии, другие — бездну и хаос, третьи считали его ученым и превозносили его метод. Были еще четвертые, пятые и десятые. Потому образ его дробился, и не было относительно него никакого единодушия.
Все было непонятно с самого начала и стало еще более непонятным, когда его не стало. После него остались обломки каких-то ненадежных воздушных замков, ничего законченного. Было от чего впасть в отчаяние. А тут еще угрюмая неприязнь властей к его ученикам, дескать, нужно искоренять заразу, чтобы она не расплодилась.
Сначала некоторые из учеников подались в Мегары к Евклиду. Там они пытались жить одной общиной, спорили по ночам о принципах, но вскоре убедились, что между ними бездны и бездны, и мосты им уже не построить. Каждый говорил о своем и тянул других в свою сторону, и не было ни одного, готового за кем-нибудь следовать. Каждый осуждал других за искажение самой сути того, чему учил Наставник. Каждый из них считал себя причастным к тому тайному центру, на который намекал их Наставник и откуда приходил к нему демон, и отрицал даже самую возможность причастности других. И потому не было общей цели и перспективы, а авторитет ушедшего был недостаточно силен, чтобы сдержать центробежные страсти. Вскоре они рассорились и разъехались, чтобы больше не встречаться. Каждый стал жить сам по себе, не столько продолжая общее дело, сколько укрепляясь в том, что Наставник в них не одобрял.
Сам Евклид отличался неумным высокоумием, мешавшим его гостям чувствовать и вести себя при нем свободно. Он приобрел некоторую сноровку в вольных рассуждениях и занимался этими рассуждениями ради них самих, несмотря на то ,что Наставник порицал его за это увлечение, присущее суемудрию. После смерти Наставника он почувствовал себя самым продвинутым среди его учеников, а потому и самым главным. Естественно, он стремился вести себя и говорить, как это делал Наставник. Этих его претензий никто с ним не разделял.
Евклид учил, что Бог это неизменное вечное существо и что он есть добро, а все противоположное ему имеет лишь временный и преходящий характер. Добродетель, по утверждению Евклида, это не просто продукт воспитания, а составляет истинную и полную сущность как мудрого человека, так и всей Вселенной. Больше же всего его занимали формальные элементы мысли, которые он использовал для опровержения положений, несогласных с его учением или придумывания разных неразрешимых парадоксов, за что его и его учеников, которые прославились не меньше своего учителя, называли эвристиками или диалектиками. Эвристики создавали парадоксы, противополагали слова сути и показывали, что слова выше сути и что невысказанная в словах суть едва ли обладает какой-либо ценностью. Парадоксы эвристиков ставили перед собой задачу завести в тупик обычный разговор, обнаружить его противоречивость и неудовлетворительность.
История показывает нам, что времяпровождение, состоявшее в том, чтобы приводить в смущение собеседника неожиданными вопросами и уметь парировать его реплики, было распространенной игрой, которой мудрецы занимались как в публичных местах, так и за столом царей. Сами цари задавали друг другу и своим подданным загадки, и об этом сохранилось много свидетельств. Вспомним хотя бы загадки царицы Савской царю Соломону. Нашим эвристикам особенно нравились вопросы, на которые требуется простой ответ и которые при всей своей простоте запутывали собеседника, заводя его в логический тупик, из которого не было выхода. Вот, например, вопрос, на который нет и не может быть простого ответа: «если какой-либо человек говорит, что он лжет, то лжет ли он или говорит правду?» Другим примером неразрешимого противоречия может служить вопрос, заданный Менедему, на который требовался простой и честный ответ — перестал ли он бить своего отца. Последователи Евклида рассказывали также о мосте, построенном богатым человеком, возле которого он поставил виселицу. Каждому дозволялось переходить через мост, если он правдиво ответит на вопрос, куда он идет, лжецу же грозила виселица. И вот к мосту подошел человек, который на вопрос, куда он идет, он сказал, что пришел сюда, чтобы быть повешенным. Стражники были крайне озадачены этим ответом, ибо если они его повесят, то выйдет, что он сказал правду, а если они его пропустят, то выйдет, что он солгал. Так они и не решили, как им поступить. Позже эту историю использовал в своем сочинении автор «Дон Кихота».
Антип, гостивший после смерти Наставника у Евклида, находил рассуждения его самого и особенно его последователей исключительно отталкивающими. Антипа буквально тошнило от пустословия Евклида, и, опускаясь на четвереньки, он начинал демонстративно лаять или изображать позывы рвоты, чтобы показать, как ему противны Бог, добро и всякие «божественные красивости», с одной стороны, и глупые логические парадоксы — с другой. Его вообще интересовали не идеи и слова, а редкая в людях способность жить вопреки всем по своим собственным канонам. Был он человек высокомерный и суровый, отличившийся в битве при Танагре, мудростью же был увлечен на склоне своих лет и определил для себя путь, названный им «путем собаки». Встретив на своем пути Наставника, он самоотверженно пошел за ним и привел к нему всех своих учеников, а когда Наставник выпил яд, Антип стал еще суровее к окружающим. Им нелегко было чувствовать на себе его холодное равнодушие и брезгливое презрение.
Антип гордился тем, что был непохож на других. Он ходил в грязном дырявом плаще, так что Наставник как- то заметил ему: «Твое тщеславие, Антип, смотрит из дыр твоего плаща». С ним постоянно была его толстая сучковатая палка, нищенская сума и чаша, чтобы зачерпывать ею воду. Бороду он никогда не брил и употреблял лишь самую простую пищу. Речь его отличалась грубостью и имела целью оскорблять тех, к кому она была обращена. За все эти качества он получил прозвище «Собака». По мере того как он старел, он становился все более угрюмым и нелюдимым и стал невыносим до такой степени, что все ученики его оставили — за исключением одного, еще более угрюмого и мрачного, но не покидавшего его до самой его смерти, по имени Оген. Об Огене созданы многочисленные легенды, и славой своей он превзошел Антипа, однако он нас сейчас мало интересует, ибо он принадлежал к следующему поколению мудрецов, в которых первоначальный импульс принял слишком грубые формы. Заметим только, что этот ученик нашел свой собственный стиль, когда заметил пробегавшую мимо мышь, которая не нуждалась в подстилке, не боялась темноты и не искала никаких удовольствий. С тех пор он поставил себе единственную цель — отказываться от роскоши и подавлять в себе всякие чувственные желания. Подобно аскетам прошлого и будущего, он верил в то, что подавление плоти есть прямой путь к идеалу, ибо плоть низменна и противница духу, дух же
должно раскрепощать на деле, а не на словах.
Нужно сказать несколько слов и о Стиппе, который также был учеником покинувшего всех Наставника. Он родился в Африке в богатой и знатной семье и, привлеченный славой Наставника, предложил ему за свое обучение большую сумму денег. Наставник усмехнулся, от денег отказался, но с удовольствием принял Стиппа в число своих учеников. Ему не нравилась страсть африканца к удовольствиям и праздности, а также его беспринципность. Вообще же отношение Наставника к своим последователям было довольно снисходительным и ироничным.
Склонность к роскоши и утонченная чувственность соединялись в Стиппе со спокойным умом. Наслаждение было для него смыслом жизни, тем не менее он умел избегать излишеств и умерять свои желания. Он был человеком легкого и уступчивого нрава, веселым малым, на лице которого не было обязательной для мудрецов гримасы сокрушения и горечи. Остроумный и радостный, он легко приспосабливался к меняющимся обстоятельствам, в частности, к интригам при дворе царя Диона, придворными которого были одно время также Аристокл и Оген. Диону нравилась непринужденная веселость Стиппа больше, чем серьезная важность Аристокла и первобытная грубость Огена. Даже самые его пороки были изящны.
О жизни Стиппа при дворе Диона сохранилось множество анекдотов. Однажды царь предложил ему выбрать одну из трех девиц, но он взял всех трех, заметив что и для Париса выбор имел роковые последствия, но, доведя их до дверей собственного дом, отпустил на все четыре стороны. Как-то во время его путешествия по Африке его рабу стало трудно таскать на себе большую сумму денег. Увидев это, Стипп сказал: выбрось лишнее и неси сколько можешь. Рассказывают также, что казначей царя, человек низкий и злой, показывал как-то Стиппу свой дом. Все в нем было дорогим и богатым, но особенно блистали чистотой и искусством мозаичные полы. И вдруг Стипп плюнул казначею в лицо. На бешеный крик хозяина он примирительно сказал: «Извини, но я не нашел другого места, куда бы было приличнее плюнуть». В другой раз Стипп попросил у царя денег. Царь долго не давал, утверждая, что мудрецам деньги ни к чему. «Дай, — уговаривал его Стипп, — и мы тотчас же разрешим этот вопрос». Заинтригованный царь выдал ему требуемую сумму. Тогда Стипп спокойно заметил: «А теперь мне деньги ни к чему». Рассказывают также, что какой-то придворный привел ему для обучения сына, но удивленный высокой платой, которую потребовал Стипп, сказал, что на эти деньги он мог бы купить раба. «Тогда у тебя будет два раба», — сказал ему Стипп.
Что касается его учения, то он не любил отвлеченных теорий, а диалектика вызывала в нем откровенную скуку. Стипп сводил общую идею блага к частной идее удовольствия, считая, что единственное, что людей не обманывает — это удовольствие. Поэтому, утверждал он, удовольствия и составляют цель жизни, будучи единственным положительным благом и единственным критерием того, что можно считать благом. Однако поскольку удовольствие нельзя оторвать от страдания, ибо одно вытекает из другого, Стипп утверждал, что душа должна властвовать над своими желаниями. Кроме того, Стипп считал, что удовольствие является основой не только личного, но и государственного благополучия, то есть что в основе государственного управления лежит распределение удовольствий. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о его учении — немного, но и немало. Что-то в этом учении заимствовано у Наставника, проповедовавшего умеренность, но больше всего идет от практического опыта и веселого нрава самого Стиппа, умевшего жить легко и не особенно напрягать свой ум, а также не перенапрягать умственные способности царя, милостями которого он пользовался без всякого стеснения.
Его ученик Феодор в одном пункте своего учения превзошел учителя. Феодор создал фундамент для величайшего духовного взлета человечества, если бы кто-нибудь сумел это заметить, но увы, открытие его пролежало в пыли несколько тысячелетий и пришло на Запад уже в наши дни с Востока. Впрочем, и сегодня оно дошло только до немногих.
Феодора принято считать атеистом, точнее, отрицателем народных богов. В этом смысле и христиане атеисты. Он отрицал не только местных богов, но также и патриотизм, и дружбу. «У мудрого человека нет ни отечества, ни друзей, — говорил он. — Неразумные дружат, пока они друг в друге нуждаются, мудрый довлеет себе, не нуждаясь ни в ком, и его отечество есть вся Вселенная». Что ж, признаем, что это неплохо сказано.
Уточняя взгляды своего учителя, Феодор на место отдельных удовольствий полагал состояние, независимое от удовольствий и страданий. По Феодору, не отдельные приятные ощущения являются целью жизни, но общее радостное состояние духа. Не отдельные удовольствия, но радость есть благо. Радость есть цель жизни, и она дается мудростью, а уныние — неразумием.
Устойчивая постоянная радость, рожденная мудростью, — вот цель человека. Цель самодостаточная, ибо что еще нужно человеку, достигшему ее? Разве что еще большая радость. Он утверждал, что радостное состояние души и есть тот ключ, который мог бы освободить всех пленников пещер, выпрямить все пути и очистить все сердца. Но не очистил, не выпрямил и не освободил, ибо человечество решило по-другому и выбрало для себя другой путь — путь знания. Знание же оказалось западней и обернулось, как мы видим сегодня, против человека. Возможно, все дело в том, что Феодор не нашел ясных слов для передачи другим своей радости, а если и нашел, до нас эти слова не дошли. Но, может быть, люди просто не захотели покинуть обитель унылого знания.
У Наставника был еще один ученик, которого в юности звали Аристоклом — мы уже это имя упоминали, — а позже за плотное сложение назвали Широким и который прославился больше всех остальных. О нем говорили, что диалектик в нем поглотил человека. Он написал много книг, и о нем написано еще больше книг на многих языках. Он создал мощный фундамент для системы знания, и на этом фундаменте была построена наша цивилизация. Тем самым он похоронил чудный росток, выращенный Феодором, среди сорняков.
И действительно, что у них было общего теперь после его смерти? Что он им такого оставил, что бы их объединило? Слова, которыми он их столько лет завораживал? От них остался лишь неясный привкус какого-то фокуса, шутки. Зато сословная рознь сразу стала всем видна, когда они расходились. Одних в дверях встречали рабы и носилки, и они садились на надушенные подушки и опускали плотный полог с тяжелыми кистями, других ждали родственники или друзья, которые набрасывали им на плечи мантии, целовали их и, обняв за плечи, уводили подальше от этого мрачного места, иные же уходили сами, надвинув на головы серые капюшоны, и исчезали в вечернем тумане, как будто бы их и не было.
Пока Наставник был жив, невидимый мир, созданный им, был прекрасен и праздничен. Что-то творилось вокруг него, для чего у них не было слов. Он говорил, он жил, он ни с кем не считался, разве что со своим демоном, ходил туда-сюда, приставал к прохожим с разговорами, дразнил их иронией, которую сразу и не раскусить, и рассуждениями, которые казались поначалу такими немудрящими. Уверенный и спокойный, стоял он в своей хламиде на базарной площади, залитой полуденным солнцем, среди мешков и горшков, беседуя с каким-нибудь олухом из Пиреи или Ларисы о ценах на оливки и скот, о его тяжбе с соседом, о местном суде — о чем угодно. А вокруг шумел базар, около торговцев свежей рыбой и зеленью суетились повара и всякий кухонный люд, их сопровождавший, сновали носильщики с плетеными корзинами, и как-то слишком неуместно толпились его ученики, следя за рассуждениями Наставника, дивясь искусству, с которым он вел за своей мыслью неискушенного прохожего и выводил его на такие высоты, в такие немыслимые сферы, что дух захватывало. Так же непринужденно он вел себя на пирушках, никого не удручал своей ученостью, пил за троих и не пьянел и лишь становился спокойней. А как заботливо он говорил со своей женой, ну прямо как с ребенком, и она его слушала и следовала за ним вместе с его учениками. Казалось, какая-то его часть в наших земных делах не участвовала, а где-то высоко и радостно жила, и вот она-то и влекла к нему окружающих. Он мог вдруг замолчать и уйти на долгие часы в себя в самом неурочном месте и в самое неподходящее время. Тогда ученики оставляли его одного, догадываясь, что он беседует со своим демоном и что ему не нужно мешать. А потом он снова появлялся на базаре или на пирушке, и они снова слушали и учились, хотя, кажется, чему можно было у него научиться?
Дело в том, что у Наставника не было никакого учения. Окруженный людьми разных возрастов и мнений, не говоря уж о различиях в их общественном положении, он беседовал с ними о вещах, которые их интересовали. С одним он говорил о политике, с другим — о науках, с третьим — о законах, с четвертым — о поэзии. Одним он внушал какие-то мысли, другим доказывал всю несостоятельность их мнений. Позже некоторые из них стали основателями собственных школ или — его врагами.
Многие не любили Наставника за его независимость и за то, что за ним толпами шли ученики, среди которых были юноши из родовитых семей и дети чиновников, хотя больше всего было среди них провинциалов, которые стекались к нему из самых далеких окраин и из-за моря. Один мегарец по имени Евклид (не путать с Евклидом из Сиракуз) в те времена, когда в Афинах всех мегарцев без разбора кидали в тюрьму и приговаривали к смерти, переодевался гулящей девкой и проходил через городские ворота ночью для того, чтобы слушать его речи. Расстояние до Мегар около 40 километров, однако он был готов одолевать этот путь и рисковать головой. Он был из тех немногих, кто оставался с Наставником до конца, до чаши с ядом.
Официальный процесс против Наставника начался из- за неприязни к нему Мила. Мил также был когда-то его последователем, однако отличался большими амбициями. У таких восторг ожидания быть по достоинству оцененным быстро сменяется на раздражение и ненависть, когда их ожидания не сбываются. Так и здесь, увидев прущее из него тщеславие, Наставник имел неосторожность усмехнуться на одну из его высокопарных реплик. После этого уничтожить Наставника стало всепоглощающей страстью Мила. Он стал собирать вокруг себя недовольных Наставником, главным образом родителей знатных учеников и вообще людей влиятельных, которых все боятся. Мил своего добился — Наставника приговорили к смертной чаше «за развращение юношества». Еще бы, ведь он учил добродетели и был человеком, отрешенным от мирских попечений, кого же еще осудить за разврат!
Таким был Наставник, самоуверенным, деятельным, непокорным. Одних он притягивал, других раздражал — никто не оставался равнодушным. Умными рассуждениями он развенчивал самый ум, и за этим ненужным больше умом каждый видел то, что он один мог увидеть. Одни видели за его словами неясные очертания новой религии, другие — бездну и хаос, третьи считали его ученым и превозносили его метод. Были еще четвертые, пятые и десятые. Потому образ его дробился, и не было относительно него никакого единодушия.
Все было непонятно с самого начала и стало еще более непонятным, когда его не стало. После него остались обломки каких-то ненадежных воздушных замков, ничего законченного. Было от чего впасть в отчаяние. А тут еще угрюмая неприязнь властей к его ученикам, дескать, нужно искоренять заразу, чтобы она не расплодилась.
Сначала некоторые из учеников подались в Мегары к Евклиду. Там они пытались жить одной общиной, спорили по ночам о принципах, но вскоре убедились, что между ними бездны и бездны, и мосты им уже не построить. Каждый говорил о своем и тянул других в свою сторону, и не было ни одного, готового за кем-нибудь следовать. Каждый осуждал других за искажение самой сути того, чему учил Наставник. Каждый из них считал себя причастным к тому тайному центру, на который намекал их Наставник и откуда приходил к нему демон, и отрицал даже самую возможность причастности других. И потому не было общей цели и перспективы, а авторитет ушедшего был недостаточно силен, чтобы сдержать центробежные страсти. Вскоре они рассорились и разъехались, чтобы больше не встречаться. Каждый стал жить сам по себе, не столько продолжая общее дело, сколько укрепляясь в том, что Наставник в них не одобрял.
Сам Евклид отличался неумным высокоумием, мешавшим его гостям чувствовать и вести себя при нем свободно. Он приобрел некоторую сноровку в вольных рассуждениях и занимался этими рассуждениями ради них самих, несмотря на то ,что Наставник порицал его за это увлечение, присущее суемудрию. После смерти Наставника он почувствовал себя самым продвинутым среди его учеников, а потому и самым главным. Естественно, он стремился вести себя и говорить, как это делал Наставник. Этих его претензий никто с ним не разделял.
Евклид учил, что Бог это неизменное вечное существо и что он есть добро, а все противоположное ему имеет лишь временный и преходящий характер. Добродетель, по утверждению Евклида, это не просто продукт воспитания, а составляет истинную и полную сущность как мудрого человека, так и всей Вселенной. Больше же всего его занимали формальные элементы мысли, которые он использовал для опровержения положений, несогласных с его учением или придумывания разных неразрешимых парадоксов, за что его и его учеников, которые прославились не меньше своего учителя, называли эвристиками или диалектиками. Эвристики создавали парадоксы, противополагали слова сути и показывали, что слова выше сути и что невысказанная в словах суть едва ли обладает какой-либо ценностью. Парадоксы эвристиков ставили перед собой задачу завести в тупик обычный разговор, обнаружить его противоречивость и неудовлетворительность.
История показывает нам, что времяпровождение, состоявшее в том, чтобы приводить в смущение собеседника неожиданными вопросами и уметь парировать его реплики, было распространенной игрой, которой мудрецы занимались как в публичных местах, так и за столом царей. Сами цари задавали друг другу и своим подданным загадки, и об этом сохранилось много свидетельств. Вспомним хотя бы загадки царицы Савской царю Соломону. Нашим эвристикам особенно нравились вопросы, на которые требуется простой ответ и которые при всей своей простоте запутывали собеседника, заводя его в логический тупик, из которого не было выхода. Вот, например, вопрос, на который нет и не может быть простого ответа: «если какой-либо человек говорит, что он лжет, то лжет ли он или говорит правду?» Другим примером неразрешимого противоречия может служить вопрос, заданный Менедему, на который требовался простой и честный ответ — перестал ли он бить своего отца. Последователи Евклида рассказывали также о мосте, построенном богатым человеком, возле которого он поставил виселицу. Каждому дозволялось переходить через мост, если он правдиво ответит на вопрос, куда он идет, лжецу же грозила виселица. И вот к мосту подошел человек, который на вопрос, куда он идет, он сказал, что пришел сюда, чтобы быть повешенным. Стражники были крайне озадачены этим ответом, ибо если они его повесят, то выйдет, что он сказал правду, а если они его пропустят, то выйдет, что он солгал. Так они и не решили, как им поступить. Позже эту историю использовал в своем сочинении автор «Дон Кихота».
Антип, гостивший после смерти Наставника у Евклида, находил рассуждения его самого и особенно его последователей исключительно отталкивающими. Антипа буквально тошнило от пустословия Евклида, и, опускаясь на четвереньки, он начинал демонстративно лаять или изображать позывы рвоты, чтобы показать, как ему противны Бог, добро и всякие «божественные красивости», с одной стороны, и глупые логические парадоксы — с другой. Его вообще интересовали не идеи и слова, а редкая в людях способность жить вопреки всем по своим собственным канонам. Был он человек высокомерный и суровый, отличившийся в битве при Танагре, мудростью же был увлечен на склоне своих лет и определил для себя путь, названный им «путем собаки». Встретив на своем пути Наставника, он самоотверженно пошел за ним и привел к нему всех своих учеников, а когда Наставник выпил яд, Антип стал еще суровее к окружающим. Им нелегко было чувствовать на себе его холодное равнодушие и брезгливое презрение.
Антип гордился тем, что был непохож на других. Он ходил в грязном дырявом плаще, так что Наставник как- то заметил ему: «Твое тщеславие, Антип, смотрит из дыр твоего плаща». С ним постоянно была его толстая сучковатая палка, нищенская сума и чаша, чтобы зачерпывать ею воду. Бороду он никогда не брил и употреблял лишь самую простую пищу. Речь его отличалась грубостью и имела целью оскорблять тех, к кому она была обращена. За все эти качества он получил прозвище «Собака». По мере того как он старел, он становился все более угрюмым и нелюдимым и стал невыносим до такой степени, что все ученики его оставили — за исключением одного, еще более угрюмого и мрачного, но не покидавшего его до самой его смерти, по имени Оген. Об Огене созданы многочисленные легенды, и славой своей он превзошел Антипа, однако он нас сейчас мало интересует, ибо он принадлежал к следующему поколению мудрецов, в которых первоначальный импульс принял слишком грубые формы. Заметим только, что этот ученик нашел свой собственный стиль, когда заметил пробегавшую мимо мышь, которая не нуждалась в подстилке, не боялась темноты и не искала никаких удовольствий. С тех пор он поставил себе единственную цель — отказываться от роскоши и подавлять в себе всякие чувственные желания. Подобно аскетам прошлого и будущего, он верил в то, что подавление плоти есть прямой путь к идеалу, ибо плоть низменна и противница духу, дух же
должно раскрепощать на деле, а не на словах.
Нужно сказать несколько слов и о Стиппе, который также был учеником покинувшего всех Наставника. Он родился в Африке в богатой и знатной семье и, привлеченный славой Наставника, предложил ему за свое обучение большую сумму денег. Наставник усмехнулся, от денег отказался, но с удовольствием принял Стиппа в число своих учеников. Ему не нравилась страсть африканца к удовольствиям и праздности, а также его беспринципность. Вообще же отношение Наставника к своим последователям было довольно снисходительным и ироничным.
Склонность к роскоши и утонченная чувственность соединялись в Стиппе со спокойным умом. Наслаждение было для него смыслом жизни, тем не менее он умел избегать излишеств и умерять свои желания. Он был человеком легкого и уступчивого нрава, веселым малым, на лице которого не было обязательной для мудрецов гримасы сокрушения и горечи. Остроумный и радостный, он легко приспосабливался к меняющимся обстоятельствам, в частности, к интригам при дворе царя Диона, придворными которого были одно время также Аристокл и Оген. Диону нравилась непринужденная веселость Стиппа больше, чем серьезная важность Аристокла и первобытная грубость Огена. Даже самые его пороки были изящны.
О жизни Стиппа при дворе Диона сохранилось множество анекдотов. Однажды царь предложил ему выбрать одну из трех девиц, но он взял всех трех, заметив что и для Париса выбор имел роковые последствия, но, доведя их до дверей собственного дом, отпустил на все четыре стороны. Как-то во время его путешествия по Африке его рабу стало трудно таскать на себе большую сумму денег. Увидев это, Стипп сказал: выбрось лишнее и неси сколько можешь. Рассказывают также, что казначей царя, человек низкий и злой, показывал как-то Стиппу свой дом. Все в нем было дорогим и богатым, но особенно блистали чистотой и искусством мозаичные полы. И вдруг Стипп плюнул казначею в лицо. На бешеный крик хозяина он примирительно сказал: «Извини, но я не нашел другого места, куда бы было приличнее плюнуть». В другой раз Стипп попросил у царя денег. Царь долго не давал, утверждая, что мудрецам деньги ни к чему. «Дай, — уговаривал его Стипп, — и мы тотчас же разрешим этот вопрос». Заинтригованный царь выдал ему требуемую сумму. Тогда Стипп спокойно заметил: «А теперь мне деньги ни к чему». Рассказывают также, что какой-то придворный привел ему для обучения сына, но удивленный высокой платой, которую потребовал Стипп, сказал, что на эти деньги он мог бы купить раба. «Тогда у тебя будет два раба», — сказал ему Стипп.
Что касается его учения, то он не любил отвлеченных теорий, а диалектика вызывала в нем откровенную скуку. Стипп сводил общую идею блага к частной идее удовольствия, считая, что единственное, что людей не обманывает — это удовольствие. Поэтому, утверждал он, удовольствия и составляют цель жизни, будучи единственным положительным благом и единственным критерием того, что можно считать благом. Однако поскольку удовольствие нельзя оторвать от страдания, ибо одно вытекает из другого, Стипп утверждал, что душа должна властвовать над своими желаниями. Кроме того, Стипп считал, что удовольствие является основой не только личного, но и государственного благополучия, то есть что в основе государственного управления лежит распределение удовольствий. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о его учении — немного, но и немало. Что-то в этом учении заимствовано у Наставника, проповедовавшего умеренность, но больше всего идет от практического опыта и веселого нрава самого Стиппа, умевшего жить легко и не особенно напрягать свой ум, а также не перенапрягать умственные способности царя, милостями которого он пользовался без всякого стеснения.
Его ученик Феодор в одном пункте своего учения превзошел учителя. Феодор создал фундамент для величайшего духовного взлета человечества, если бы кто-нибудь сумел это заметить, но увы, открытие его пролежало в пыли несколько тысячелетий и пришло на Запад уже в наши дни с Востока. Впрочем, и сегодня оно дошло только до немногих.
Феодора принято считать атеистом, точнее, отрицателем народных богов. В этом смысле и христиане атеисты. Он отрицал не только местных богов, но также и патриотизм, и дружбу. «У мудрого человека нет ни отечества, ни друзей, — говорил он. — Неразумные дружат, пока они друг в друге нуждаются, мудрый довлеет себе, не нуждаясь ни в ком, и его отечество есть вся Вселенная». Что ж, признаем, что это неплохо сказано.
Уточняя взгляды своего учителя, Феодор на место отдельных удовольствий полагал состояние, независимое от удовольствий и страданий. По Феодору, не отдельные приятные ощущения являются целью жизни, но общее радостное состояние духа. Не отдельные удовольствия, но радость есть благо. Радость есть цель жизни, и она дается мудростью, а уныние — неразумием.
Устойчивая постоянная радость, рожденная мудростью, — вот цель человека. Цель самодостаточная, ибо что еще нужно человеку, достигшему ее? Разве что еще большая радость. Он утверждал, что радостное состояние души и есть тот ключ, который мог бы освободить всех пленников пещер, выпрямить все пути и очистить все сердца. Но не очистил, не выпрямил и не освободил, ибо человечество решило по-другому и выбрало для себя другой путь — путь знания. Знание же оказалось западней и обернулось, как мы видим сегодня, против человека. Возможно, все дело в том, что Феодор не нашел ясных слов для передачи другим своей радости, а если и нашел, до нас эти слова не дошли. Но, может быть, люди просто не захотели покинуть обитель унылого знания.
У Наставника был еще один ученик, которого в юности звали Аристоклом — мы уже это имя упоминали, — а позже за плотное сложение назвали Широким и который прославился больше всех остальных. О нем говорили, что диалектик в нем поглотил человека. Он написал много книг, и о нем написано еще больше книг на многих языках. Он создал мощный фундамент для системы знания, и на этом фундаменте была построена наша цивилизация. Тем самым он похоронил чудный росток, выращенный Феодором, среди сорняков.
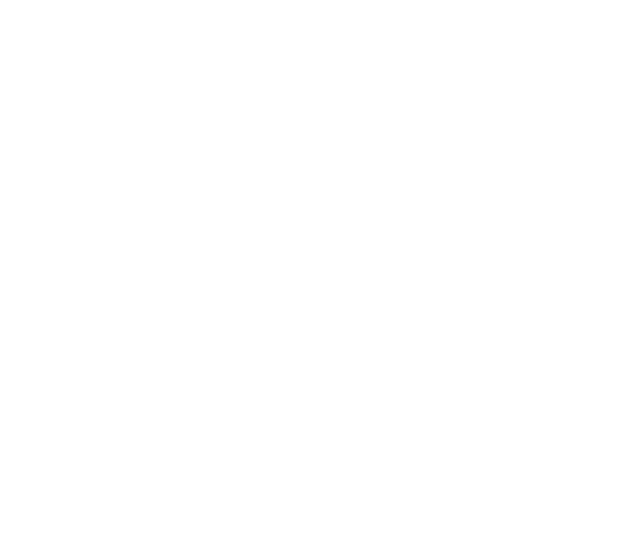
Пеленание предка
Сборник рассказов. 2005 г.
Сборник рассказов. 2005 г.
Издательство: Номос
Год издания: 2005
Страниц: 512
Формат: 20.6 x 13 x 3 см
Обложка: твердая
ISBN: 0-922792-79-8
Год издания: 2005
Страниц: 512
Формат: 20.6 x 13 x 3 см
Обложка: твердая
ISBN: 0-922792-79-8
Собрание «мистической прозы» Аркадия Ровнера, создавшего свою неповторимую реальность в гиперпространстве условных городов Москвы и Нью-Йорка. Мир Аркадия Ровнера — это место, где «обычные желания исполняются без особых усилий, где незаметно исправляются и все земные недочеты: горбатый выпрямляется, косой не косит, хромой не хромает...» («Внутренняя Калифорния») и где «обыденность не приносится в жертву синтезированному образу, а документирует невероятную реальность» (А. Парщиков, «Независимая газета»).
Книга в наличии: