АРКАДИЙ РОВНЕР
Переписка с Николаем Боковым (2013 г.)
из книги
«Конец прекрасной эпохи»
«Конец прекрасной эпохи»
Аркадий:
Дорогой Коля.
Перечитывая Вяч. Иванова, нахожу многое, чего не замечал раньше. В частности, наткнулся на «Переписку из двух углов», не раз в прошлом читанную. Интересным показалось поговорить на эти темы сегодня, век спустя: как сместились акценты и куда они сместились. И особенно интересно в связи с нашей с тобой разновекторностью. С учетом возможности публикации переписки или без публикации ‒ не важно. Пошлю тебе первое письмо этими днями.
Твой,
АР
Москва, 24.11.13
Николай:
Рискнем!
НБ
Париж, 24.11.13
Аркадий:
Ну что ж, к делу!
Задача действительно интересная: в свободной манере рассмотреть сокровенные мысли и переживания двух замечательных людей, в каком-то смысле олицетворявших последний взлет российской культуры – так называемый Серебряный век – перед ее почти вековым провалом и обмороком и затем – реанимацией в новом качестве и новой тональности.
Но об этом разговор впереди, а сейчас я хотел бы в порядке общего вступления напомнить, что оба корреспондента жили какое-то время в одной комнате в «Здравнице для работников науки и литературы» близ Москвы – стояло лето 1920 года. Переписку инициировал Вячеслав Иванов, поэт-символист и культуролог (1866–1949), оставив на столе свое первое письмо, адресованное М.О. Гершензону, литературоведу, философу, публицисту и переводчику (1869–1925).
Оставим в стороне детальную обрисовку исторической обстановки в России лета 1920 года. Напомню только, что на этот год пришлись такие события, как вступление Красной армии в Красноярск, в Ростов-на-Дону, в Хиву, разгром 2-ой и 3-ей армий Колчака и расстрел Колчака, начало наступления на Крым, установление советской власти в Татарстане, Азербайджане, Бухаре, Хорезме, Армении, выпуск на Сормовском заводе первого советского танка, декрет о всеобщей трудовой повинности… прибавим к этому разруху, голод, эпидемии, бандитизм… 1920 год завершился разгромом барона Врангеля и ликвидацией последнего белого фронта в европейской части России – в Крыму.
В это время в Подмосковье, в общественной здравнице, между друзьями, принадлежавшими некогда одному кругу, а ныне делившими одну комнату в организованной властями здравнице для литераторов, разыгрывается борьба двух мировоззренческих систем – двух теорий жизни и культуры. Друзья обменялись шестью письмами, и переписка окончилась, когда выяснился непримиримый антагонизм их позиций и бесполезность дальнейшего обсуждения затронутых ими тем.
Закончив на этом преамбулу, я попытаюсь охарактеризовать ход дискуссии, запечатленной в шести письмах, написанных каждым.
Задача нелегкая. Дело в том, что характеристика – это всегда выражение позиции и отношения к тому, что берешься описывать. Отношение, которое я испытываю, читая эти страницы, мучительное – все это слишком мне близко и, одновременно, слишком чуждо. Близко, потому что узелки, связавшие мысли этих людей, еще крепко держат меня и мои мысли. Чуждо, потому что сто лет – 93 года, если быть педантичным, но ведь их мировоззрения сложились не в 1920-м, а намного раньше, – отделившие сегодняшний день от того времени, провели резкую борозду между мной и ими, между моим и их мироощущением.
Позволю себе грубое сравнение: оглядываясь на историю человечества и человеческой культуры, оба они судят как гурманы, сидящие в изысканном ресторане: один из них поет дифирамбы прекрасным блюдам и напиткам, другой отдает предпочтение чистой ключевой воде и дарам природы, сорванным прямо с ветки, полученным прямо из рук Матери-Земли. Да, на них уже дохнуло холодом истории, тремя годами революции и гражданской смуты, но они предпочитают о настоящем не говорить, они еще решают вопросы, заданные началом века, полном взволнованных ожиданий и розовых надежд.
Сто лет спустя мы узнали, – на своих судьбах и в своей природе, а не в умозрении и в теории – чем эти ожидания обернулись – адом тоталитаризма, гибелью культуры и рождением нового мира, для которого еще не найдено окончательного имени, но в котором нет места для людей, им подобных.
И для нас с тобой, дорогой друг, тоже.
Твой,
Аркадий
Аркадий:
Дорогой друг.
Судя по затянувшемуся молчанию, мне не удалось разбудить в тебе встречный импульс – вызвать на разговор по поводу переписки столетней давности двух литераторов Вяч. Иванова и Гершензона. Да, вполне возможно, что первое мое письмо было не по существу, оно не хватало быка за рога, оно вводило в контекст неподготовленного читателя и потому имело характер безличного предисловия, на которое ты не захотел отвечать. Признáюсь, я не столь высокомерен, я понимаю неподготовленного читателя и стремлюсь ему помочь. Я сам такой неподготовленный читатель, которому нужно построить контекст, прежде чем поместить в него свои соображения и догадки. Я ему сочувствую, и во мне нет снобизма.
У меня нет готового контекста – похоже, что у тебя он имеется. Имелся он и у двух литераторов, о которых я предлагал поговорить, хотя каждый из них нес с собой свой отдельный световой и цветовой диапазон. И потому они разошлись в своих оценках целого. Один из них излучал оптимизм, другой свидетельствовал о безнадежности общего контекста. Их разговор зашел в тупик после того как первый применил недозволенный прием – объяснил недоверие к культуре второго его этническими характеристиками. Он сказал: ты по своей природе скиталец, Вечный Жид, твоя судьба – вечно скитаться, искать, быть недовольным. Ты не видишь того, что вижу я – культура несет в себе зачатки святости, инициатические зерна. Нет, отвечал ему второй, я бы хотел вообще выйти из этой культуры в некую первозданность, однако я не знаю куда.
Прошло сто лет, и ни один из спорящих не вызывает во мне сегодня сочувствия. Первый – потому что я не доверяю его культурному оптимизму и его теизму, лежащему в основе этого оптимизма. У меня особое недоверие к акцентированной Ивановым идее «личного Бога». Что значит в этом контексте «личный»? У меня есть личная судьба, личный компьютер, личная зубная щетка. Но что значит «личный Бог» – то, что он занимается мною лично? При этом он и тобой занимается лично. Это как зубной врач, у которого несколько пациентов. Но такой врач – не мой личный врач, он и мой, и твой, и других, хотя наши отношения, несомненно, носят личный характер. А как быть с другой половиной человечества – буддистами, даосами и конфуцианцами, которые обходятся без личного Бога и вообще без Бога?
Гершензон несет в себе синдром отказа от слов и от мыслей, стремление погрузиться в темную основу существования, в какую-то сомнительную «подлинность» – этот интеллектуальный обскурантизм мне тем более претит. Да, «слово лжет», но другого способа общения мы еще не придумали и пока не научились полноценно общаться при посредстве импульсов, взглядов и жестов. В этом Иванов его справедливо упрекает. Однако Гершензон верно говорит, что культура (западная христианская культура) вошла в полосу тяжелой стагнации, и высекать из нее инициатические искры – напрасный труд. Выхода он не видит.
Прошедшее столетие радикально продвинуло нас по пути культурной деградации. Что ж, это процесс, который требует времени. Китай разлагается несколько тысячелетий. Рим разлагался 500 и более лет. Россия начала разлагаться еще до Пушкина, который заметил и подсказал Гоголю Чичикова, и продолжает по сей день. Западная Европа во многом Россию опережает. Быть в контексте культуры – это значит претерпевать вместе с ней все ее нездоровые состояния. Но можно ли выйти из культурного контекста? Шагнуть вперед или назад, или вообще в неизвестность? Такие случаи нам известны.
Мне кажется, ты решительно хочешь быть в контексте. Об этом свидетельствует твоя прекрасная проза о Галилее. Ее свет, ее хрупкость и очарование – это из последних отблесков закатившегося солнца. Может быть, будут еще какие-то переливы красок и звуков у тебя или у кого-то еще, но западная культура закончилась. Закат состоялся. Стоит вопрос: что дальше? А может он не стоит?
Аркадий
Николай:
«Не говори: отчего это нынешние времена хуже прежних? – Потому что не от мудрости ты говоришь это».
Эту ветхозаветную сентенцию, дорогой Аркадий, я полюбил лет в сорок. Тогда же я подумал, что сослагательное мышление – с частицей бы – мешает созерцать панораму истории. Затем я усомнился в возможности и самой панорамы – настоящей, с какой-нибудь вершины, пусть виртуальной.
Ныне мне близок образ-модель человечества в виде гигантского червя, постоянно растущего и обновляемого там, где должна быть «голова», но ее как таковой нет; а его «хвост» постоянно отмирает.
Человечество не разлагается и не деградирует. Его биологическая задача неукоснительно выполняется. Она назначена, задана. Почему это так – часть тайны мира вообще. Ясно, что не им самим: у человечества нет головы столь же масштабной, как и тело. Все его головы – религии – локальны. Несколько обнадеживает тот факт, что из всех религий можно выделить некие общие черты, эссенцию самого общего знания.
Таковы некоторые элементы моего оптимизма, то есть спокойного и даже радостного взгляда на мир и на человека. Ибо если мир создан или существует по непонятным причинам, то не мне тревожиться о моей ответственности, о том, верны ли мои взгляды, оценки и действия.
Ясно только одно: не следует причинять другому человеку боли и муки, а следует стремиться даже к тому, чтобы его любить. Насколько возможно, если удается.
Твое первое письмо меня смутило утверждениями историко-социологического толка. Я не знаю, что с ними делать. Я как раз думаю, что они принадлежат культуре китча, – понятого как набор конвенций «прекрасного», «доброго», «философского», «исторического», «религиозного». В основе китча лежит потребность в мгновенной узнаваемости повседневности, – иначе как эвакуировать вечный страх смерти, возрастающий по мере того, как человек разочаровывается в ничем не завершающемся ожидании? Ибо это и есть главное занятие человека в жизни. Он ждет, хотя и не знает, чего именно, – кроме тех минут, когда он ждет автобуса или приема у врача.
Гершензон мне близок своим сомневающимся историзмом, Иванов мне далек своей близостью к разговорной философии… Мне странна их «пресыщенность культурой» – после советской грязи и пустыни… Но сам их пример записанного диалога нам пригодился…
Твой Н.Б.
Париж, 11.12.13
Аркадий:
«Не говори: отчего это нынешние времена хуже прежних? – Потому что не от мудрости ты говоришь это».
К обсуждаемой нами проблематике эта сентенция из Экклезиаста имеет лишь отдаленное отношение. Говорилось об отношении двух литераторов к культуре и выяснилось, что мировая культура порождает в одном из них энтузиазм, а в другом –неудовлетворенность. Мы с тобой от этих оценок отмежевались.
Действительно, человечество не разлагается и не деградирует, однако это происходит с нашим цивилизационным организмом, как происходило с другими. Цивилизационный организм рождается, созревает, цветет, угасает и, наконец, гибнет. Каждая из названных временных стадий ни хороша, ни плоха, и Экклезиаст в этом прав, но каждая требует своего к ней отношения и мудрого поведения.
Итак, речь идет о культуре, то есть, преемственности, создании и разрушении ценностей, об изменении форм и о диверсификации языка. Вяч. Иванов и Гершензон не говорили языком царя Соломона, и у нас с тобой также иная проблематика и иной язык.
Я хочу воспользоваться для иллюстрации моей мысли сослагательным наклонением, которое, знаю, ты не одобряешь. Соверши мы с тобой на развилках наших судеб два-три несвойственных нам поступка, как это сделали те, для кого это было органично, например, – называю от печки – Мураками и Пелевин, сегодня у нас была бы другая более благоприятная писательская судьба. Но мы с тобой знали: если у зуба убить нерв, он станет практически вечным. Убивать живой зуб мы не захотели – успех не был для нас главной ценностью, – хотя понимали, что для того, чтобы быть успешным в мертвой культуре, нужно быть мертвым.
Однако моя мысль о другом, о том, что впереди человечества всегда стоит мистический опыт тех, кого считают основателями и религиозных и безрелигиозных цивилизаций, как например, Конфуция или Будду, опыт тех, кто создает для них код.
Религия – это уплотнившийся, оплывший и остывший мистический опыт, приспособленный умельцами для употребления массой людей. А у писателя, у поэта нет другой задачи, кроме стяжания этого опыта и его плодов, и нет более высокого предела, чем этот. Все прочее – литература (то есть китч), как заметил Поль Верлен в переводе Бориса Пастернака.
Всё, кроме освобождения человека от паутины бессмыслицы или гордыни, есть китч, грех, помраченность – разве не это является главным смыслом того, что несет в себе культура? Но культура гибнет на наших глазах, и зерна ее становятся бесполезны. И все же: будем радоваться, ибо надежду мы не похоронили.
Всегда твой,
Аркадий
Москва, 16.12.13
Николай:
Дорогой мой Аркадий,
удастся ли нам вести и в самом деле диалог, не посягая на свободу друг друга…
Я усомнился в этом, найдя в твоем ответе четыре раза слово «мы», заключающее меня в некоторое объединение с тобой. Признаться, это для меня довольно неожиданно. В твоем «мы» мне несколько тесно. Философия зуба без нерва или с оным не вызывает у меня эстетического энтузиазма.
Тем более, что ты связываешь ее с именами, для меня случайными. Боюсь, что тут имеет место зависть к успеху, который ты считаешь незаслуженным. Мне это чувство знакомо, я стараюсь не терять над ним контроля.
Кстати, одно ироническое замечание Пелевина мне однажды показалось удачным, а именно, «солидный Господь для солидных господ». Оно одно характеризует нынешнее православие в России.
Сентенцией из Экклезиаста я хотел защититься от сползания в сетование на прошлое, на «непонимание тех или этих».
Но как избавиться от всякого рода высокомерия, вроде верленовского переводного? Плодотворная мысль не растрачивает себя на борьбу с химерами, она спокойно берет себе нужный материал, а ненужного не берет.
Обнимаю тебя,
Николай Боков
Аркадий:
Да, дорогой Коля, человечество похоже на клубок червей или, скорее, змей – червей по безмыслию, змей по ярости, – стремящихся сожрать или ужалить друг друга. Вдобавок множество мелких червей-паразитов или змеенышей, живут у них в утробах, поедают их внутренности и рвут их на части.
Это, прежде всего, огромный монголо-византийский червь по имени Россия. Затем змея-пантера – Соединенные Штаты Америки, жадно ищущая очередную жертву своей алчности. Где-то на обочине кряхтит могучий червь-дракон Китая. В центре бьется выеденный паразитами, сосущими ее сердцевину, червяк Европы. Есть еще косая дюжина червей второго разряда, бьющихся на чьей-то стороне. Каждая особь осуществляет свою наработанную программу и не способна отступить от нее ни на дюйм.
Однако попадаются на нашей планете безумные особи, одержимые страстью самоотдачи, самораскрытия, самопроявления и вдобавок имеющие что раскрыть и проявить. Не исключаю, что это «что» само выбирает для себя своих выразителей и благодатно усмиряет их змеинность и червивость. Охваченные этой страстью, они не находят возможности жалить други своя или отстаивать в споре свою идейную нишу, как бы дорого они за этот опыт, за эту нишу ни заплатили. Погруженные в созерцание Бога или Ничто, они смотрят на мир спокойно и беспристрастно, не отчаиваясь и не обманываясь, но счастливы только те из них, кто не пытается разменивать свое святое безумие на червиво-змеиную похлебку, кто сострадает слабым и чужд жестоких.
В этом смысле, как некто уже заметил, у человечества было две истории: история войн, преследований и предательств и история созерцания высшего – побочным следствием последнего стала культура, предмет великой заботы наших героев из подмосковной Здравницы для литераторов. Замечено было – не ими, к сожалению, – что культура строится на земле, изъеденной червями, не держащей ее несущие конструкции. Когда в России обвалилась старая цивилизация, они продолжали рассуждать о ней, как будто ничего не произошло, и спорить о том, несет ли она в себе инспиративную энергию или же утомляет своей преизбыточностью.
Что мы видим сто лет спустя? Змеиный клубок стал плотнее, злее и ядовитее, а строители культуры, надышавшиеся змеиных испарений, – слабее и растерянней. Никто не уносится в заоблачные выси – жизнь оплотнилась и сил едва хватает отбиваться от симулякров, создавая пародии, китчи, антиутопии, абсурд. Думать о большем не велит время. Друзей это тоже раздражает.
А между тем сегодня подход к мировоззренческим вопросам должен быть более сбалансированным, чем в «Переписке» Иванова и Гершензона, учитывающим и высокие стремления, и реальные условия, и возможности. Кроме того, для меня очевидна узость их мировоззренческой перспективы: мышление наших авторов в значительной степени определяется штампами российского философского дискурса той эпохи, особенно, теологической составляющей этого дискурса. Сегодня нельзя больше оставаться запертыми в одной религиозно-мистической парадигме и проявлять невежество и пренебрежение в отношении других. (Комично то, что Иванов пишет в своей статье «Идея неприятия мира» о «вирусе буддизма».) Для человека, который сегодня действительно стремится к самопознанию, мир традиций распахнут как никогда.
Что ж, у каждой эпохи свои преимущества и ограничения и свои посильные задачи.
Мне хотелось бы знать, как ты смотришь на эти мысли.
Радости тебе, дорогой друг!
Аркадий
Дорогой Коля.
Перечитывая Вяч. Иванова, нахожу многое, чего не замечал раньше. В частности, наткнулся на «Переписку из двух углов», не раз в прошлом читанную. Интересным показалось поговорить на эти темы сегодня, век спустя: как сместились акценты и куда они сместились. И особенно интересно в связи с нашей с тобой разновекторностью. С учетом возможности публикации переписки или без публикации ‒ не важно. Пошлю тебе первое письмо этими днями.
Твой,
АР
Москва, 24.11.13
Николай:
Рискнем!
НБ
Париж, 24.11.13
Аркадий:
Ну что ж, к делу!
Задача действительно интересная: в свободной манере рассмотреть сокровенные мысли и переживания двух замечательных людей, в каком-то смысле олицетворявших последний взлет российской культуры – так называемый Серебряный век – перед ее почти вековым провалом и обмороком и затем – реанимацией в новом качестве и новой тональности.
Но об этом разговор впереди, а сейчас я хотел бы в порядке общего вступления напомнить, что оба корреспондента жили какое-то время в одной комнате в «Здравнице для работников науки и литературы» близ Москвы – стояло лето 1920 года. Переписку инициировал Вячеслав Иванов, поэт-символист и культуролог (1866–1949), оставив на столе свое первое письмо, адресованное М.О. Гершензону, литературоведу, философу, публицисту и переводчику (1869–1925).
Оставим в стороне детальную обрисовку исторической обстановки в России лета 1920 года. Напомню только, что на этот год пришлись такие события, как вступление Красной армии в Красноярск, в Ростов-на-Дону, в Хиву, разгром 2-ой и 3-ей армий Колчака и расстрел Колчака, начало наступления на Крым, установление советской власти в Татарстане, Азербайджане, Бухаре, Хорезме, Армении, выпуск на Сормовском заводе первого советского танка, декрет о всеобщей трудовой повинности… прибавим к этому разруху, голод, эпидемии, бандитизм… 1920 год завершился разгромом барона Врангеля и ликвидацией последнего белого фронта в европейской части России – в Крыму.
В это время в Подмосковье, в общественной здравнице, между друзьями, принадлежавшими некогда одному кругу, а ныне делившими одну комнату в организованной властями здравнице для литераторов, разыгрывается борьба двух мировоззренческих систем – двух теорий жизни и культуры. Друзья обменялись шестью письмами, и переписка окончилась, когда выяснился непримиримый антагонизм их позиций и бесполезность дальнейшего обсуждения затронутых ими тем.
Закончив на этом преамбулу, я попытаюсь охарактеризовать ход дискуссии, запечатленной в шести письмах, написанных каждым.
Задача нелегкая. Дело в том, что характеристика – это всегда выражение позиции и отношения к тому, что берешься описывать. Отношение, которое я испытываю, читая эти страницы, мучительное – все это слишком мне близко и, одновременно, слишком чуждо. Близко, потому что узелки, связавшие мысли этих людей, еще крепко держат меня и мои мысли. Чуждо, потому что сто лет – 93 года, если быть педантичным, но ведь их мировоззрения сложились не в 1920-м, а намного раньше, – отделившие сегодняшний день от того времени, провели резкую борозду между мной и ими, между моим и их мироощущением.
Позволю себе грубое сравнение: оглядываясь на историю человечества и человеческой культуры, оба они судят как гурманы, сидящие в изысканном ресторане: один из них поет дифирамбы прекрасным блюдам и напиткам, другой отдает предпочтение чистой ключевой воде и дарам природы, сорванным прямо с ветки, полученным прямо из рук Матери-Земли. Да, на них уже дохнуло холодом истории, тремя годами революции и гражданской смуты, но они предпочитают о настоящем не говорить, они еще решают вопросы, заданные началом века, полном взволнованных ожиданий и розовых надежд.
Сто лет спустя мы узнали, – на своих судьбах и в своей природе, а не в умозрении и в теории – чем эти ожидания обернулись – адом тоталитаризма, гибелью культуры и рождением нового мира, для которого еще не найдено окончательного имени, но в котором нет места для людей, им подобных.
И для нас с тобой, дорогой друг, тоже.
Твой,
Аркадий
Аркадий:
Дорогой друг.
Судя по затянувшемуся молчанию, мне не удалось разбудить в тебе встречный импульс – вызвать на разговор по поводу переписки столетней давности двух литераторов Вяч. Иванова и Гершензона. Да, вполне возможно, что первое мое письмо было не по существу, оно не хватало быка за рога, оно вводило в контекст неподготовленного читателя и потому имело характер безличного предисловия, на которое ты не захотел отвечать. Признáюсь, я не столь высокомерен, я понимаю неподготовленного читателя и стремлюсь ему помочь. Я сам такой неподготовленный читатель, которому нужно построить контекст, прежде чем поместить в него свои соображения и догадки. Я ему сочувствую, и во мне нет снобизма.
У меня нет готового контекста – похоже, что у тебя он имеется. Имелся он и у двух литераторов, о которых я предлагал поговорить, хотя каждый из них нес с собой свой отдельный световой и цветовой диапазон. И потому они разошлись в своих оценках целого. Один из них излучал оптимизм, другой свидетельствовал о безнадежности общего контекста. Их разговор зашел в тупик после того как первый применил недозволенный прием – объяснил недоверие к культуре второго его этническими характеристиками. Он сказал: ты по своей природе скиталец, Вечный Жид, твоя судьба – вечно скитаться, искать, быть недовольным. Ты не видишь того, что вижу я – культура несет в себе зачатки святости, инициатические зерна. Нет, отвечал ему второй, я бы хотел вообще выйти из этой культуры в некую первозданность, однако я не знаю куда.
Прошло сто лет, и ни один из спорящих не вызывает во мне сегодня сочувствия. Первый – потому что я не доверяю его культурному оптимизму и его теизму, лежащему в основе этого оптимизма. У меня особое недоверие к акцентированной Ивановым идее «личного Бога». Что значит в этом контексте «личный»? У меня есть личная судьба, личный компьютер, личная зубная щетка. Но что значит «личный Бог» – то, что он занимается мною лично? При этом он и тобой занимается лично. Это как зубной врач, у которого несколько пациентов. Но такой врач – не мой личный врач, он и мой, и твой, и других, хотя наши отношения, несомненно, носят личный характер. А как быть с другой половиной человечества – буддистами, даосами и конфуцианцами, которые обходятся без личного Бога и вообще без Бога?
Гершензон несет в себе синдром отказа от слов и от мыслей, стремление погрузиться в темную основу существования, в какую-то сомнительную «подлинность» – этот интеллектуальный обскурантизм мне тем более претит. Да, «слово лжет», но другого способа общения мы еще не придумали и пока не научились полноценно общаться при посредстве импульсов, взглядов и жестов. В этом Иванов его справедливо упрекает. Однако Гершензон верно говорит, что культура (западная христианская культура) вошла в полосу тяжелой стагнации, и высекать из нее инициатические искры – напрасный труд. Выхода он не видит.
Прошедшее столетие радикально продвинуло нас по пути культурной деградации. Что ж, это процесс, который требует времени. Китай разлагается несколько тысячелетий. Рим разлагался 500 и более лет. Россия начала разлагаться еще до Пушкина, который заметил и подсказал Гоголю Чичикова, и продолжает по сей день. Западная Европа во многом Россию опережает. Быть в контексте культуры – это значит претерпевать вместе с ней все ее нездоровые состояния. Но можно ли выйти из культурного контекста? Шагнуть вперед или назад, или вообще в неизвестность? Такие случаи нам известны.
Мне кажется, ты решительно хочешь быть в контексте. Об этом свидетельствует твоя прекрасная проза о Галилее. Ее свет, ее хрупкость и очарование – это из последних отблесков закатившегося солнца. Может быть, будут еще какие-то переливы красок и звуков у тебя или у кого-то еще, но западная культура закончилась. Закат состоялся. Стоит вопрос: что дальше? А может он не стоит?
Аркадий
Николай:
«Не говори: отчего это нынешние времена хуже прежних? – Потому что не от мудрости ты говоришь это».
Эту ветхозаветную сентенцию, дорогой Аркадий, я полюбил лет в сорок. Тогда же я подумал, что сослагательное мышление – с частицей бы – мешает созерцать панораму истории. Затем я усомнился в возможности и самой панорамы – настоящей, с какой-нибудь вершины, пусть виртуальной.
Ныне мне близок образ-модель человечества в виде гигантского червя, постоянно растущего и обновляемого там, где должна быть «голова», но ее как таковой нет; а его «хвост» постоянно отмирает.
Человечество не разлагается и не деградирует. Его биологическая задача неукоснительно выполняется. Она назначена, задана. Почему это так – часть тайны мира вообще. Ясно, что не им самим: у человечества нет головы столь же масштабной, как и тело. Все его головы – религии – локальны. Несколько обнадеживает тот факт, что из всех религий можно выделить некие общие черты, эссенцию самого общего знания.
Таковы некоторые элементы моего оптимизма, то есть спокойного и даже радостного взгляда на мир и на человека. Ибо если мир создан или существует по непонятным причинам, то не мне тревожиться о моей ответственности, о том, верны ли мои взгляды, оценки и действия.
Ясно только одно: не следует причинять другому человеку боли и муки, а следует стремиться даже к тому, чтобы его любить. Насколько возможно, если удается.
Твое первое письмо меня смутило утверждениями историко-социологического толка. Я не знаю, что с ними делать. Я как раз думаю, что они принадлежат культуре китча, – понятого как набор конвенций «прекрасного», «доброго», «философского», «исторического», «религиозного». В основе китча лежит потребность в мгновенной узнаваемости повседневности, – иначе как эвакуировать вечный страх смерти, возрастающий по мере того, как человек разочаровывается в ничем не завершающемся ожидании? Ибо это и есть главное занятие человека в жизни. Он ждет, хотя и не знает, чего именно, – кроме тех минут, когда он ждет автобуса или приема у врача.
Гершензон мне близок своим сомневающимся историзмом, Иванов мне далек своей близостью к разговорной философии… Мне странна их «пресыщенность культурой» – после советской грязи и пустыни… Но сам их пример записанного диалога нам пригодился…
Твой Н.Б.
Париж, 11.12.13
Аркадий:
«Не говори: отчего это нынешние времена хуже прежних? – Потому что не от мудрости ты говоришь это».
К обсуждаемой нами проблематике эта сентенция из Экклезиаста имеет лишь отдаленное отношение. Говорилось об отношении двух литераторов к культуре и выяснилось, что мировая культура порождает в одном из них энтузиазм, а в другом –неудовлетворенность. Мы с тобой от этих оценок отмежевались.
Действительно, человечество не разлагается и не деградирует, однако это происходит с нашим цивилизационным организмом, как происходило с другими. Цивилизационный организм рождается, созревает, цветет, угасает и, наконец, гибнет. Каждая из названных временных стадий ни хороша, ни плоха, и Экклезиаст в этом прав, но каждая требует своего к ней отношения и мудрого поведения.
Итак, речь идет о культуре, то есть, преемственности, создании и разрушении ценностей, об изменении форм и о диверсификации языка. Вяч. Иванов и Гершензон не говорили языком царя Соломона, и у нас с тобой также иная проблематика и иной язык.
Я хочу воспользоваться для иллюстрации моей мысли сослагательным наклонением, которое, знаю, ты не одобряешь. Соверши мы с тобой на развилках наших судеб два-три несвойственных нам поступка, как это сделали те, для кого это было органично, например, – называю от печки – Мураками и Пелевин, сегодня у нас была бы другая более благоприятная писательская судьба. Но мы с тобой знали: если у зуба убить нерв, он станет практически вечным. Убивать живой зуб мы не захотели – успех не был для нас главной ценностью, – хотя понимали, что для того, чтобы быть успешным в мертвой культуре, нужно быть мертвым.
Однако моя мысль о другом, о том, что впереди человечества всегда стоит мистический опыт тех, кого считают основателями и религиозных и безрелигиозных цивилизаций, как например, Конфуция или Будду, опыт тех, кто создает для них код.
Религия – это уплотнившийся, оплывший и остывший мистический опыт, приспособленный умельцами для употребления массой людей. А у писателя, у поэта нет другой задачи, кроме стяжания этого опыта и его плодов, и нет более высокого предела, чем этот. Все прочее – литература (то есть китч), как заметил Поль Верлен в переводе Бориса Пастернака.
Всё, кроме освобождения человека от паутины бессмыслицы или гордыни, есть китч, грех, помраченность – разве не это является главным смыслом того, что несет в себе культура? Но культура гибнет на наших глазах, и зерна ее становятся бесполезны. И все же: будем радоваться, ибо надежду мы не похоронили.
Всегда твой,
Аркадий
Москва, 16.12.13
Николай:
Дорогой мой Аркадий,
удастся ли нам вести и в самом деле диалог, не посягая на свободу друг друга…
Я усомнился в этом, найдя в твоем ответе четыре раза слово «мы», заключающее меня в некоторое объединение с тобой. Признаться, это для меня довольно неожиданно. В твоем «мы» мне несколько тесно. Философия зуба без нерва или с оным не вызывает у меня эстетического энтузиазма.
Тем более, что ты связываешь ее с именами, для меня случайными. Боюсь, что тут имеет место зависть к успеху, который ты считаешь незаслуженным. Мне это чувство знакомо, я стараюсь не терять над ним контроля.
Кстати, одно ироническое замечание Пелевина мне однажды показалось удачным, а именно, «солидный Господь для солидных господ». Оно одно характеризует нынешнее православие в России.
Сентенцией из Экклезиаста я хотел защититься от сползания в сетование на прошлое, на «непонимание тех или этих».
Но как избавиться от всякого рода высокомерия, вроде верленовского переводного? Плодотворная мысль не растрачивает себя на борьбу с химерами, она спокойно берет себе нужный материал, а ненужного не берет.
Обнимаю тебя,
Николай Боков
Аркадий:
Да, дорогой Коля, человечество похоже на клубок червей или, скорее, змей – червей по безмыслию, змей по ярости, – стремящихся сожрать или ужалить друг друга. Вдобавок множество мелких червей-паразитов или змеенышей, живут у них в утробах, поедают их внутренности и рвут их на части.
Это, прежде всего, огромный монголо-византийский червь по имени Россия. Затем змея-пантера – Соединенные Штаты Америки, жадно ищущая очередную жертву своей алчности. Где-то на обочине кряхтит могучий червь-дракон Китая. В центре бьется выеденный паразитами, сосущими ее сердцевину, червяк Европы. Есть еще косая дюжина червей второго разряда, бьющихся на чьей-то стороне. Каждая особь осуществляет свою наработанную программу и не способна отступить от нее ни на дюйм.
Однако попадаются на нашей планете безумные особи, одержимые страстью самоотдачи, самораскрытия, самопроявления и вдобавок имеющие что раскрыть и проявить. Не исключаю, что это «что» само выбирает для себя своих выразителей и благодатно усмиряет их змеинность и червивость. Охваченные этой страстью, они не находят возможности жалить други своя или отстаивать в споре свою идейную нишу, как бы дорого они за этот опыт, за эту нишу ни заплатили. Погруженные в созерцание Бога или Ничто, они смотрят на мир спокойно и беспристрастно, не отчаиваясь и не обманываясь, но счастливы только те из них, кто не пытается разменивать свое святое безумие на червиво-змеиную похлебку, кто сострадает слабым и чужд жестоких.
В этом смысле, как некто уже заметил, у человечества было две истории: история войн, преследований и предательств и история созерцания высшего – побочным следствием последнего стала культура, предмет великой заботы наших героев из подмосковной Здравницы для литераторов. Замечено было – не ими, к сожалению, – что культура строится на земле, изъеденной червями, не держащей ее несущие конструкции. Когда в России обвалилась старая цивилизация, они продолжали рассуждать о ней, как будто ничего не произошло, и спорить о том, несет ли она в себе инспиративную энергию или же утомляет своей преизбыточностью.
Что мы видим сто лет спустя? Змеиный клубок стал плотнее, злее и ядовитее, а строители культуры, надышавшиеся змеиных испарений, – слабее и растерянней. Никто не уносится в заоблачные выси – жизнь оплотнилась и сил едва хватает отбиваться от симулякров, создавая пародии, китчи, антиутопии, абсурд. Думать о большем не велит время. Друзей это тоже раздражает.
А между тем сегодня подход к мировоззренческим вопросам должен быть более сбалансированным, чем в «Переписке» Иванова и Гершензона, учитывающим и высокие стремления, и реальные условия, и возможности. Кроме того, для меня очевидна узость их мировоззренческой перспективы: мышление наших авторов в значительной степени определяется штампами российского философского дискурса той эпохи, особенно, теологической составляющей этого дискурса. Сегодня нельзя больше оставаться запертыми в одной религиозно-мистической парадигме и проявлять невежество и пренебрежение в отношении других. (Комично то, что Иванов пишет в своей статье «Идея неприятия мира» о «вирусе буддизма».) Для человека, который сегодня действительно стремится к самопознанию, мир традиций распахнут как никогда.
Что ж, у каждой эпохи свои преимущества и ограничения и свои посильные задачи.
Мне хотелось бы знать, как ты смотришь на эти мысли.
Радости тебе, дорогой друг!
Аркадий
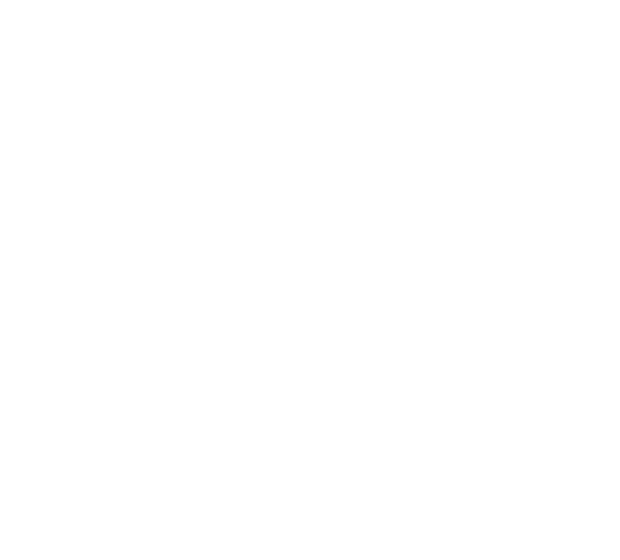
Конец прекрасной эпохи
Эссе и переписка с друзьями. 2024 г.
Эссе и переписка с друзьями. 2024 г.
Издательство: Амрита-Русь
Год издания: 2024
Страниц: 320
Формат: 20 x 14 x 1.5 см
Обложка: твердая
ISBN: 978-5-00228-133-6
Год издания: 2024
Страниц: 320
Формат: 20 x 14 x 1.5 см
Обложка: твердая
ISBN: 978-5-00228-133-6
Эссе Аркадия Ровнера свидетельствуют об уникальном опыте, соединяющим академическую рефлексию, мистическую интуицию и виртуозность литературного стиля. За его текстами всегда присутствует нечто большее, нежели литература или эрудиция культуролога. Это большее часто упоминаемый в этой книге Г.И. Гурджиев назвал бы «работой». Такой глубины поэтическая риторика в казалось бы прозаическом жанре не плод одного эстетического воображения. Эссеистика Аркадия Ровнера поэтому обращена никак не к читателю, а к его большему, к его «работе», о чем сам читатель может и не догадываться, а если догадывается, то сразу же перестает быть только читателем. Включенная в сборник переписка позволяет увидеть саму эту «работу» в действии, в поворотах живого диалога.
Фрагменты из книги «Конец прекрасной эпохи» (2024)
Переписка с Николаем Боковым (2013 г.)
Воображение как инструмент познания всего
Цитатник Аркадия Ровнера
Переписка с Николаем Боковым (2013 г.)
Воображение как инструмент познания всего
Цитатник Аркадия Ровнера
Книга в наличии: