АРКАДИЙ РОВНЕР
Герой
Рассказ из книги
«Ход королём»
«Ход королём»
Счастлив тот, кто сидит на своем стуле,
тысячу раз счастливее тот, кто сидит
в ангельском кресле, но жалок тот,
кому не на что присесть.
Г. И. Гурджиев
Sitting in this eternal armchair…
Richard McKane ¹
Я задумывался о смерти. Жуткая сила давила меня вниз, тело ныло и болело, хотя ничего не болело, я с трудом дышал, с трудом держал открытыми глаза - закрывались сами, - едва волочил руки, ноги, голову - и так каждый день с утра и до ночи. Что это - скрытая болезнь, забота, внутренний разрыв, невидимый простому глазу?
Сегодня, сидя на корточках, шаря в пустом холодильнике, я вдруг подумал: роман. Я замер от страха, меня прошибло потом, швырнуло об стенку и тут же без перерыва начало знобить.
Не доверяя догадке, я долго кипятил воду, долго пил густой чай, гася сигарету за сигаретой, завесив жалюзями слепящее утро. Пучился, переливался Хадсон, стоймя стояло небо над нью- джерсийским берегом с серыми фабричными кубами на выцветших холмах. Я вытащил из-под кровати туфли со сбитыми каблуками. Я натянул гернзейский свитер с продранными локтями. Я даже нашел бумагу, и машинка стояла передо мной и работала.
Боже, сказал я сам себе, закрывая глаза и затягиваясь сигаретным ядом, облегчи мне душу и дай твоего разумения, ибо моего недостаточно. Боже, сказал я, ты все знаешь: я пью, я сплю до полудня, но я же сгораю от бессонных мыслей, я несу на своих плечах сегодняшний мир с его судорогами и безумием, дрожа от страха, чтобы не уронить. Да, я грешен, но души своей Комару² не продал, да, я - раб, но я и - ты сам знаешь - царь, да, я - червь, но... и ты это знаешь прекрасно.
Отложив мысль о смерти, я принялся за работу.
Страх и отчаяние владеют мною, когда я пишу эти строки. Страшно оттого, что писать слишком легко и не нужно стараться понравиться, напротив, было бы стыдом и провалом понравиться, ибо некому нравиться - нет человека, для которого я пишу, и я даже не могу сказать, как сказал уже некто: “я отказываюсь быть сегодня, чтобы быть завтра”, ибо никакого завтра я тем более не вижу. И не тревожит форма, потому что нет формы или - форма спонтанна. Мы - люди формы, о чем же тревожиться?
Но отчего тогда страх? Страшно оттого, что рука, печатающая сейчас эти строки, отнимется, и эта мысль, - моя неприкаянная муза - тоже. Смертный прыжок ужасен. Страшен первый вздох и первая судорога там, где темнота и тяжесть отступают и падает пелена, и видишь без глаз. А может быть там встретят нас новые пелены и иная, еще большая тяжесть?
Вот я заглядываю в самую свою глубину, но никакой глубины не вижу. Я стараюсь разглядеть белесоватые пятна за смутным томлением, тычусь в пустой экран - все тщетно. Пустота давит и жжет. Глаза не глядят на проплывающие пейзажи. Все смыслы не нужны, кроме одного, последнего, но именно он недоступен.
А способен ли я вообще не лгать, задал я себе вопрос и обессилел. Мыслимо ли это вообще? Потому что, если немыслимо, тогда к чему вся эта затея? К чему роман, к которому я еще не готов? Ибо как можно не лгать? Или - лгать и не стыдиться? С утра, сидя в глубоком кресле посреди гостиной и закрыв глаза, я пробую забыться.
Окна пылают и слепят солнечными прожекторами. Закрытые глаза не приносят успокоения. Розовые разводы сползают вниз, но цепляются и застревают, не желая сползти окончательно. Мысли тоже ползут, не в силах остановиться. Сердце то замолкает, то припускает галопом. Я пробую догнать какую-то мысль, придержать, рассмотреть, но - безуспешно. Помешиваю чай, стуча ложечкой о чашку. Через час-другой я просыпаюсь окончательно: день начался. Я пробую вспомнить, есть ли у меня сегодня какие-нибудь дела. Так и не вспомнив, направляюсь к выходу.
Предстоит еще миновать коридорный тоннель - длинный и мрачный - вопросительным знаком в обратную сторону. Я боюсь коридорных ловушек - длинных и узких проходов. Страх: вдруг не выйду оттуда!
Двери в комнаты справа и слева зияют провалами.
Одинокая лампочка тлеет под потолком.
Пол шершавится. Стены нависли.
Поворот и еще поворот, и еще, и еще.
В доме моем собрались коридоры веков.
Коридоры больниц, коридоры казенных домов.
Коридоры траншей и - воздушные коридоры.
Бездыханные уличные коридоры больных городов.
Коридоры подземок.
Коридорные мыши жирны.
...я выбегаю на улицу.
Обогнув угол куба, оказываюсь на опустошенно широком авеню.
Одолеваю подъем по бугристой спине тротуара.
Чахлая зелень петляет между потоками автомобилей.
Солнце пригибает кусты и травинки, затемняя сознание.
Бликует кремлевская стена Колумбийского университета, но куда делись привычно вечнозеленые ели?
Натыкаюсь на черные кулаки листовок, облепившие стены и столбы: знакомые звезды, угрозы, призывы. Солнце, набираясь отчаянной злости, обрушивает на асфальт раскаленную лаву.
Мне приснились два обморочных, два одинаковых города.
Они поселились во мне, как два зверька, и уже неразлучны.
Я вздохнул и - задохнулся: не тот свет! не те лица!
Город лепится на ладони скалы.
Город бросился к острову, бугрясь над водой этажами.
Город - подмостки: меняются спектакли и актеры.
Умершие выглядывают из живого, и живой умирает.
Странно ходить по городу, разговаривая с ним через головы его обитателей.
Совершив круг почета в четыре квартала, я возвращаюсь домой, не заплатив ни полушки пантомиме жизни.
Взбираюсь на последний этаж.
Ползу длинным угрюмо-сумрачным - ночью и днем - коридором.
Падаю в кресло и закрываю глаза.
Огненные шары рассыпают горячие перья.
Радужные круги проплывают, вращаясь, скользя.
Я продвигаюсь среди шевелящихся граней.
Я засыпаю. Я падаю.
Грани призрачных форм и раскрасок засыпают меня.
Я проваливаюсь. Я просыпаюсь. Я брежу: прошлым, настоящим, не знаю...
Тому назад год или два..., да, кажется, два... осенью... летом... нью-йоркским бездыханным июлем мне довелось пережить...
Но прежде, чем я смогу продолжить, я должен задать один вопрос. Жив ли ты, читатель? Потому что, если нет, если ты еще не очнулся от слепого азарта застящих душу иллюзий, рассказ мой будет для тебя не только пустым, но и оскорбительным. Тогда не читай его. Спеши - не задерживайся - туда, где толпы мертвяков вершат ритуалы смерти на полях нежизни.
...в середине жизненного перегона - нью-йоркским бездыханным июлем 197... года с уличной гарью и обморочными снами - мне пришлось пережить видение, после которого все прошлое задернулось горьким дымом, а под моими ногами оказалась глубокая яма с осклизлыми краями. Удерживание означало напряжение и пытку, а скольжение, которое уже началось, было облегчением, похожим на отдых, сон или смерть. Сама грань между устойчивостью и зыбким наклоном стала расплывчатой и неопределенной - я съезжал и делал напрасные усилия остановить, замедлить, не дать этому случиться, не видеть того, что случилось...
Однако стоит ли перегружать повествование рассуждениями? Не лучше ли, наметив несколькими штрихами фон, представить добравшемуся до этой страницы читателю героя? Хотя герой по причине своей мизерабельности может вполне оказаться невидимкой. Не он ли, несчастный, прыгает сегодня из коммуналок и отелей в журналы и книжки? Не он ли играет блеклые позавчерашние роли в замшелых спектаклях, дергается, икает и хрипит, изображая нечто невообразимо убогое - своего создателя?
Есть и другое проклятие - слепоглухой читатель. Какие распятия и самосожжения вернут ему зрение и слух? Какие катастрофы испугают, какие струны растрогают его? Кто ему посочувствует? Кто поможет? Однако не будем предугадывать события, станем их лучше предопределять. Так надежнее.
Сегодняшний герой не вздрагивает от дружеских приветствий, не падает в обморок от телефонных звонков, его не преследуют барабанные атаки, и островные духи не терзают его по ночам. Одержимый клиническими, маниями, он носится по кругу, таща на себе небоскребы бреда, то замедляя ход, то набирая разбег, пока, споткнувшись, не падает, заваленный обломками ноши, или же... прорывается в беспощадно сомкнутый киклопический круг законодателей глобального бреда.
Все это не касается нашего героя. Наш смотрится хорошо при лампе, освещающей нижнюю часть лица: при этом глаза из полутени тяжело и настойчиво держат вас вопросом и сомнением. А если нужны цвет и объем, то вопреки оптическому ожиданию - прохладный овал сверху и оранжевый спуск ромба под лампой.
Зовут его в полном соответствии с исконной речной традицией русских романтических имен Женей Яузовым. И хотя Яуза и небольшая речка, но зато что может быть обстоятельней, обходительней, убедительней и доверительней имени Женя! Зовите меня просто Женей.
Есть в Женином взгляде и чертах некая неуклюжесть, неопределенность, невыраженность, при которых трудно зацепить за черту и пригвоздить ее к странице. Но ведь и нет никакой надобности пригвождать - оставим это занятие Грибоедовым и Щедриным. Мы же обратимся к месту действия.
Место действия - один из сумасшедших, больных, захваченных чернью сверхгородов, похожий на корабль, которым безраздельно завладели крысы. Герой - болезненное существо, живущее в клоачных испарениях этого города. Наверное, он - литератор, человек, зачарованный превращениями слов в реальность, совпадениями снов, желаний и событий. Живущий между несколькими мирами, он пытается удержаться в пределах ущербного, искаженного, выталкивающего его мира. Только подошвами обуви касается он земли, и каждый его шаг грозит утратой опоры. В чертах его сквозит сумасшествие, но расплавленное и живое, недопустимое на фоне окаменевшего безумия города. Как набоковский Цинцинат, он обнажен перед окружающими, которые сразу признают в нем прокаженного - человека без касты. Что толку от того, что он временами напяливает на себя колпак Арлекина и издает петушиные вопли, - он способен обмануть окружающих на день, ну, может быть, на два, но тем большее негодование, тем пущую злобу вызовет он, когда, неизбежно опомнившись, возвратится к нормальному своему состоянию - снам. Вспоминается безвидный паренек Слава Брежнев, к которому, услышав его фамилию, подобострастно бросались угодливые чинуши. Зато как подробно и сладострастно мстили они ему, когда обнаруживалась ошибка и выяснялось, что он вовсе ничей и не родственник.
Герой наш живет неизвестно как и на что, но и в этом прослеживается его несчастная избранность, ибо, перешагнув некую черту визионерской отваги, он поддержан невидимыми руками, окружен незримой протекцией, бережно прикрыт колпаком архангела Михаила. Он живет в огромной нелепой захламленной квартире с длинным мрачным коридорным тоннелем. Тусклая лампочка тлеет под потолком. Потолки низкие, кое-где провисающие, с ржавыми пятнами и осыпающейся штукатуркой. Щепки откалываются от гнилого паркета. В гостиной - кресло с помойки, бюро, заваленное бумагами, книги, из-под которых выглядывают носик чайника, стеклышко от очков. За окном гул, рычанье, фырчанье, цокот лошадиных подков - напротив конюшня, - гудки, выкрики. Стекла дрожат от проезжающих машин, как от землетрясения. Никогда не мытые окна завешены никогда не стиранными занавесками.
День героя - дзенская охота за буйволом вне связи с протяженностью времени. Время для Жени ничего не значит: у него всегда есть время - днем, когда загнанный, ослепленный конкретностью бытия, он стонет от почти физической боли несуществования, и вечером, когда наступает благодатный перелом, и чем острее дневное томление, тем мягче, нежнее освобождение и примирение. Днем он бьется о столбы слепого света - каменные блоки тьмы. Вечером неверная прохлада - перерыв беспощадной пытки каленым металлом - освежает горячее влажное дыхание, и упругими, гибкими становятся предметы и мысли. Будто бы влагой напиталась земля, и вот пробилась нежная бледная зелень, и все живет, дышит, сходятся дружественные духи, расцветают соцветия мыслей.
В те дни к Евгению собирались гости: де Местр из Ниццы, Гюисманс из Парижа, Георгий Иванович из Карса, В.С. из Москвы. Он принимал их в своей обширной обшарпанной квартире. Он сбился с ног, размещая их по комнатам, как по номерам гостиницы. Он стирал старые майки и подштанники, смывал грязную пену с поверхности ванны, залитой переплеснувшими через край водами смерти. Он знал, что после купания в водах смерти гости станут иными, и торопливо шил им новые одежды.
В дыхании сумерек, среди умного участия, в эфирной вязкой многоликости рождается живое насыщающее узнавание, которое бесполезно искать днем, приходят ответы, которых не дозовешься в слепой полуденной оголтелости. Грохот и мельтешение затихают, вещи возвращаются на свои места, до них можно дотронуться, как до настоящих. Ночная река за окном наполняется мерцанием. И даже в мертвом нью- йоркском небе – twinkle-twinkle - пробивается одинокое чудо - звезда. Улица под окном дышит осмысленным дыханием расступившегося времени: в ее безлюдных контурах проступают спящие черты античного полиса. В минуту прозрачности покровов, открытости и пугливой растроганности -
Сегодня, сидя на корточках, шаря в пустом холодильнике, я вдруг подумал: роман. Я замер от страха, меня прошибло потом, швырнуло об стенку и тут же без перерыва начало знобить.
Не доверяя догадке, я долго кипятил воду, долго пил густой чай, гася сигарету за сигаретой, завесив жалюзями слепящее утро. Пучился, переливался Хадсон, стоймя стояло небо над нью- джерсийским берегом с серыми фабричными кубами на выцветших холмах. Я вытащил из-под кровати туфли со сбитыми каблуками. Я натянул гернзейский свитер с продранными локтями. Я даже нашел бумагу, и машинка стояла передо мной и работала.
Боже, сказал я сам себе, закрывая глаза и затягиваясь сигаретным ядом, облегчи мне душу и дай твоего разумения, ибо моего недостаточно. Боже, сказал я, ты все знаешь: я пью, я сплю до полудня, но я же сгораю от бессонных мыслей, я несу на своих плечах сегодняшний мир с его судорогами и безумием, дрожа от страха, чтобы не уронить. Да, я грешен, но души своей Комару² не продал, да, я - раб, но я и - ты сам знаешь - царь, да, я - червь, но... и ты это знаешь прекрасно.
Отложив мысль о смерти, я принялся за работу.
Страх и отчаяние владеют мною, когда я пишу эти строки. Страшно оттого, что писать слишком легко и не нужно стараться понравиться, напротив, было бы стыдом и провалом понравиться, ибо некому нравиться - нет человека, для которого я пишу, и я даже не могу сказать, как сказал уже некто: “я отказываюсь быть сегодня, чтобы быть завтра”, ибо никакого завтра я тем более не вижу. И не тревожит форма, потому что нет формы или - форма спонтанна. Мы - люди формы, о чем же тревожиться?
Но отчего тогда страх? Страшно оттого, что рука, печатающая сейчас эти строки, отнимется, и эта мысль, - моя неприкаянная муза - тоже. Смертный прыжок ужасен. Страшен первый вздох и первая судорога там, где темнота и тяжесть отступают и падает пелена, и видишь без глаз. А может быть там встретят нас новые пелены и иная, еще большая тяжесть?
Вот я заглядываю в самую свою глубину, но никакой глубины не вижу. Я стараюсь разглядеть белесоватые пятна за смутным томлением, тычусь в пустой экран - все тщетно. Пустота давит и жжет. Глаза не глядят на проплывающие пейзажи. Все смыслы не нужны, кроме одного, последнего, но именно он недоступен.
А способен ли я вообще не лгать, задал я себе вопрос и обессилел. Мыслимо ли это вообще? Потому что, если немыслимо, тогда к чему вся эта затея? К чему роман, к которому я еще не готов? Ибо как можно не лгать? Или - лгать и не стыдиться? С утра, сидя в глубоком кресле посреди гостиной и закрыв глаза, я пробую забыться.
Окна пылают и слепят солнечными прожекторами. Закрытые глаза не приносят успокоения. Розовые разводы сползают вниз, но цепляются и застревают, не желая сползти окончательно. Мысли тоже ползут, не в силах остановиться. Сердце то замолкает, то припускает галопом. Я пробую догнать какую-то мысль, придержать, рассмотреть, но - безуспешно. Помешиваю чай, стуча ложечкой о чашку. Через час-другой я просыпаюсь окончательно: день начался. Я пробую вспомнить, есть ли у меня сегодня какие-нибудь дела. Так и не вспомнив, направляюсь к выходу.
Предстоит еще миновать коридорный тоннель - длинный и мрачный - вопросительным знаком в обратную сторону. Я боюсь коридорных ловушек - длинных и узких проходов. Страх: вдруг не выйду оттуда!
Двери в комнаты справа и слева зияют провалами.
Одинокая лампочка тлеет под потолком.
Пол шершавится. Стены нависли.
Поворот и еще поворот, и еще, и еще.
В доме моем собрались коридоры веков.
Коридоры больниц, коридоры казенных домов.
Коридоры траншей и - воздушные коридоры.
Бездыханные уличные коридоры больных городов.
Коридоры подземок.
Коридорные мыши жирны.
...я выбегаю на улицу.
Обогнув угол куба, оказываюсь на опустошенно широком авеню.
Одолеваю подъем по бугристой спине тротуара.
Чахлая зелень петляет между потоками автомобилей.
Солнце пригибает кусты и травинки, затемняя сознание.
Бликует кремлевская стена Колумбийского университета, но куда делись привычно вечнозеленые ели?
Натыкаюсь на черные кулаки листовок, облепившие стены и столбы: знакомые звезды, угрозы, призывы. Солнце, набираясь отчаянной злости, обрушивает на асфальт раскаленную лаву.
Мне приснились два обморочных, два одинаковых города.
Они поселились во мне, как два зверька, и уже неразлучны.
Я вздохнул и - задохнулся: не тот свет! не те лица!
Город лепится на ладони скалы.
Город бросился к острову, бугрясь над водой этажами.
Город - подмостки: меняются спектакли и актеры.
Умершие выглядывают из живого, и живой умирает.
Странно ходить по городу, разговаривая с ним через головы его обитателей.
Совершив круг почета в четыре квартала, я возвращаюсь домой, не заплатив ни полушки пантомиме жизни.
Взбираюсь на последний этаж.
Ползу длинным угрюмо-сумрачным - ночью и днем - коридором.
Падаю в кресло и закрываю глаза.
Огненные шары рассыпают горячие перья.
Радужные круги проплывают, вращаясь, скользя.
Я продвигаюсь среди шевелящихся граней.
Я засыпаю. Я падаю.
Грани призрачных форм и раскрасок засыпают меня.
Я проваливаюсь. Я просыпаюсь. Я брежу: прошлым, настоящим, не знаю...
Тому назад год или два..., да, кажется, два... осенью... летом... нью-йоркским бездыханным июлем мне довелось пережить...
Но прежде, чем я смогу продолжить, я должен задать один вопрос. Жив ли ты, читатель? Потому что, если нет, если ты еще не очнулся от слепого азарта застящих душу иллюзий, рассказ мой будет для тебя не только пустым, но и оскорбительным. Тогда не читай его. Спеши - не задерживайся - туда, где толпы мертвяков вершат ритуалы смерти на полях нежизни.
...в середине жизненного перегона - нью-йоркским бездыханным июлем 197... года с уличной гарью и обморочными снами - мне пришлось пережить видение, после которого все прошлое задернулось горьким дымом, а под моими ногами оказалась глубокая яма с осклизлыми краями. Удерживание означало напряжение и пытку, а скольжение, которое уже началось, было облегчением, похожим на отдых, сон или смерть. Сама грань между устойчивостью и зыбким наклоном стала расплывчатой и неопределенной - я съезжал и делал напрасные усилия остановить, замедлить, не дать этому случиться, не видеть того, что случилось...
Однако стоит ли перегружать повествование рассуждениями? Не лучше ли, наметив несколькими штрихами фон, представить добравшемуся до этой страницы читателю героя? Хотя герой по причине своей мизерабельности может вполне оказаться невидимкой. Не он ли, несчастный, прыгает сегодня из коммуналок и отелей в журналы и книжки? Не он ли играет блеклые позавчерашние роли в замшелых спектаклях, дергается, икает и хрипит, изображая нечто невообразимо убогое - своего создателя?
Есть и другое проклятие - слепоглухой читатель. Какие распятия и самосожжения вернут ему зрение и слух? Какие катастрофы испугают, какие струны растрогают его? Кто ему посочувствует? Кто поможет? Однако не будем предугадывать события, станем их лучше предопределять. Так надежнее.
Сегодняшний герой не вздрагивает от дружеских приветствий, не падает в обморок от телефонных звонков, его не преследуют барабанные атаки, и островные духи не терзают его по ночам. Одержимый клиническими, маниями, он носится по кругу, таща на себе небоскребы бреда, то замедляя ход, то набирая разбег, пока, споткнувшись, не падает, заваленный обломками ноши, или же... прорывается в беспощадно сомкнутый киклопический круг законодателей глобального бреда.
Все это не касается нашего героя. Наш смотрится хорошо при лампе, освещающей нижнюю часть лица: при этом глаза из полутени тяжело и настойчиво держат вас вопросом и сомнением. А если нужны цвет и объем, то вопреки оптическому ожиданию - прохладный овал сверху и оранжевый спуск ромба под лампой.
Зовут его в полном соответствии с исконной речной традицией русских романтических имен Женей Яузовым. И хотя Яуза и небольшая речка, но зато что может быть обстоятельней, обходительней, убедительней и доверительней имени Женя! Зовите меня просто Женей.
Есть в Женином взгляде и чертах некая неуклюжесть, неопределенность, невыраженность, при которых трудно зацепить за черту и пригвоздить ее к странице. Но ведь и нет никакой надобности пригвождать - оставим это занятие Грибоедовым и Щедриным. Мы же обратимся к месту действия.
Место действия - один из сумасшедших, больных, захваченных чернью сверхгородов, похожий на корабль, которым безраздельно завладели крысы. Герой - болезненное существо, живущее в клоачных испарениях этого города. Наверное, он - литератор, человек, зачарованный превращениями слов в реальность, совпадениями снов, желаний и событий. Живущий между несколькими мирами, он пытается удержаться в пределах ущербного, искаженного, выталкивающего его мира. Только подошвами обуви касается он земли, и каждый его шаг грозит утратой опоры. В чертах его сквозит сумасшествие, но расплавленное и живое, недопустимое на фоне окаменевшего безумия города. Как набоковский Цинцинат, он обнажен перед окружающими, которые сразу признают в нем прокаженного - человека без касты. Что толку от того, что он временами напяливает на себя колпак Арлекина и издает петушиные вопли, - он способен обмануть окружающих на день, ну, может быть, на два, но тем большее негодование, тем пущую злобу вызовет он, когда, неизбежно опомнившись, возвратится к нормальному своему состоянию - снам. Вспоминается безвидный паренек Слава Брежнев, к которому, услышав его фамилию, подобострастно бросались угодливые чинуши. Зато как подробно и сладострастно мстили они ему, когда обнаруживалась ошибка и выяснялось, что он вовсе ничей и не родственник.
Герой наш живет неизвестно как и на что, но и в этом прослеживается его несчастная избранность, ибо, перешагнув некую черту визионерской отваги, он поддержан невидимыми руками, окружен незримой протекцией, бережно прикрыт колпаком архангела Михаила. Он живет в огромной нелепой захламленной квартире с длинным мрачным коридорным тоннелем. Тусклая лампочка тлеет под потолком. Потолки низкие, кое-где провисающие, с ржавыми пятнами и осыпающейся штукатуркой. Щепки откалываются от гнилого паркета. В гостиной - кресло с помойки, бюро, заваленное бумагами, книги, из-под которых выглядывают носик чайника, стеклышко от очков. За окном гул, рычанье, фырчанье, цокот лошадиных подков - напротив конюшня, - гудки, выкрики. Стекла дрожат от проезжающих машин, как от землетрясения. Никогда не мытые окна завешены никогда не стиранными занавесками.
День героя - дзенская охота за буйволом вне связи с протяженностью времени. Время для Жени ничего не значит: у него всегда есть время - днем, когда загнанный, ослепленный конкретностью бытия, он стонет от почти физической боли несуществования, и вечером, когда наступает благодатный перелом, и чем острее дневное томление, тем мягче, нежнее освобождение и примирение. Днем он бьется о столбы слепого света - каменные блоки тьмы. Вечером неверная прохлада - перерыв беспощадной пытки каленым металлом - освежает горячее влажное дыхание, и упругими, гибкими становятся предметы и мысли. Будто бы влагой напиталась земля, и вот пробилась нежная бледная зелень, и все живет, дышит, сходятся дружественные духи, расцветают соцветия мыслей.
В те дни к Евгению собирались гости: де Местр из Ниццы, Гюисманс из Парижа, Георгий Иванович из Карса, В.С. из Москвы. Он принимал их в своей обширной обшарпанной квартире. Он сбился с ног, размещая их по комнатам, как по номерам гостиницы. Он стирал старые майки и подштанники, смывал грязную пену с поверхности ванны, залитой переплеснувшими через край водами смерти. Он знал, что после купания в водах смерти гости станут иными, и торопливо шил им новые одежды.
В дыхании сумерек, среди умного участия, в эфирной вязкой многоликости рождается живое насыщающее узнавание, которое бесполезно искать днем, приходят ответы, которых не дозовешься в слепой полуденной оголтелости. Грохот и мельтешение затихают, вещи возвращаются на свои места, до них можно дотронуться, как до настоящих. Ночная река за окном наполняется мерцанием. И даже в мертвом нью- йоркском небе – twinkle-twinkle - пробивается одинокое чудо - звезда. Улица под окном дышит осмысленным дыханием расступившегося времени: в ее безлюдных контурах проступают спящие черты античного полиса. В минуту прозрачности покровов, открытости и пугливой растроганности -
локтем опершись о бюро, закинув эспаньолку, усталый, но обнадеженный Дес Эссант высматривает на полке томик Вергилия, а незаметно расстегнувший под огромным квадратным бантом перламутровую пуговицу Август заинтересованно оборачивается к окруженному группкой поклонников посланнику несуществующего королевства де Местру -
в эту самую минуту к герою подкрадывается неясное беспокойство. Евгений спохватывается: кошелек? книга? часы? Они только что были здесь, в руках еще живо ощущение веса и объема: вот так я взял, потом положил сюда... Ручка, часы, кошелек... он хватается за остатки реальности. И реальность обрушивается на него врасплох жестким ребристым ритмом тамтамов, ребрами пролетов пожарных лестниц, выползающих из тьмы угрюмым узором решетки.
С припадом: раз-дват-ри, раз-дват-ри - конвульсии костров, барабанов, бедер - в комнату героя, наполненную гостями -
С припадом: раз-дват-ри, раз-дват-ри - конвульсии костров, барабанов, бедер - в комнату героя, наполненную гостями -
газ, мушки, банты, камзолы, кружева, декольте, перламутрово-серебряные крылья -
врывается див пустыни, одноглазый колченогий киклоп со срезанным черепом и перекошенным лбом. Он выступает из стены профилем, плечом, локтем, коленом. Съедая комнату, он заполняет собой пространство, и хрупкие гости скукоживаются, вянут, теряют кружева, перья, медленно, неотвратимо опадают их крылья под резким въедливым разъедающим барабанным ритмом -
тонкие бледные лица, горькие
извилины ртов, тихие утонувшие глаза - о эти глаза гостей героя!
извилины ртов, тихие утонувшие глаза - о эти глаза гостей героя!
Страшна минута убийства, когда гости доверчиво расположились полукругом, когда беседа, найдя тон непринужденной свободы, течет, описывая кружевные волнующиеся контуры люстр, сводчатых окон и цветов в изнеженных вазах, когда, осмелев, лепятся пасторальные сцены, звучат пастельные вздохи - и вдруг:
астральный взрыв, жуткое потрясение, обвал!!!
Раздавленный герой унижен, уничтожен слабостью. Барабаны стучат у него в груди, отдают в лопатках, барабанные палочки барабанят в горле: раз-дват-ри, раз-дват-ри, барабанный гул добирается до сердца. Обессиленный, Евгений доползает до проигрывателя, спасительный щелчок - и влажная моцартовская волна щедро смывает настырно примитивную хватку тамтамов.
- Сидя в этом кресле вечности... Ричард Маккейн
- Концептуалистская акция Виталия Комара, покупавшего души в Нью- Йорке в начале 80-х годов
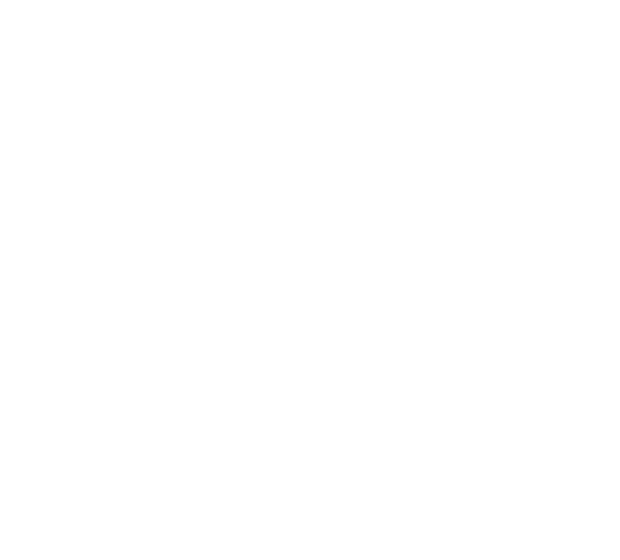
Ход королём
Избранная проза, том 2. 1998 г.
Избранная проза, том 2. 1998 г.
Издательство: Миф
Год издания: 1998
Страниц: 288
Формат: 20.5 x 14.5 x 2 см
Обложка: твёрдая
ISBN: 5-89395-167-8
Год издания: 1998
Страниц: 288
Формат: 20.5 x 14.5 x 2 см
Обложка: твёрдая
ISBN: 5-89395-167-8
Второй том включает в себя книгу нью-йоркской прозы 80-х годов «Пузыри земли»: повести и рассказы, тексты и мини-тексты, «трактат-скандал» «Кубики-рубики»; а также роман «Ход королем».
Книга в наличии: