АРКАДИЙ РОВНЕР
Три эха
Рассказ из книги
«Ход королём»
«Ход королём»
Тебе ж нет отзыва...
Пушкин «Эхо»
Я не знаю, нужда ли в зерне, запчастях для несущих ракет или несомых боеголовок или жажда запустить новую порцию рябчиков во все поры внепещерного города толкнула под руку Полифема, когда принималось решение об эмиграции. Как бы там ни было, но киклоп отвалил камень от пещеры - и из нее выкатились не только рябчики, но и горсточка перепуганных, перекореженных, перекошенных, полуслепых от неожиданной яркости, полуживых нас. Не знаю, как другие, но, вырвавшись из пещеры, Женя Яузов не резвился, как молодой теленок, возле дуба в Цюрихе, не пускал слюни на алый комсомольский бархат в “Царевиче” - нет, он куксился, прятался, он нес на себе свою темницу. Все же он испытал первый обманчивый шок освобождения: он мысленно обнимал весь внепещерный мир, боясь до конца поверить случившемуся. Все, что не Полифем и не пещера, было для него “мы”, и - ах, как сонно, как беззаботно деревья разбрасывали тень, как пели площади и звенели фонтаны, и было страшно за них - хотелось их предостеречь, уберечь, спрятать. Страх его оказался не напрасным, и очень скоро он убедился, что власть Полифема распространяется далеко за пределами пещеры. Рябчики киклопа с накладными носами и бородами всевозможных калибров, с почти что неприкрытыми рожками и копытами - добровольные, невольные, верные, уклончивые, заслончивые, обманчивые, самодовольные - рекруты и политруки, хвосты и копчики, уши и ужи - рябчики Полифема застили ему свободу. Круг ее все более замыкался, пока, наконец, не свелся к прежнему пещерному “мы”: полудюжине спутников, старых и новых знакомцев. Оказалось, снаружи пещеры тот же самый киклоп принимал только более обманчивую наружность, сохраняя при этом свои беспощадность и паранойю. Положение было плачевным: затерянная среди рябчиков Полифема, выдавшая себя с головой самим фактом побега, не имея более возможности прятаться за мимикрию, разбрелась горстка беженцев по разным далеким концам внепещерного города под неугасающим стеклянносвирепым одноглазым прожектором киклопа.
Рябчики между тем раскололись на две друг к другу тяготеющие партии - полифемистов и антиполифемистов, или поли- фемовцев, - поделившие области контроля. Борьба с неподконтрольными влияниями велась обычными киклоповскими методами, так что не присоединившиеся ни к одной из партий, вылезая из своей конуры, неизбежно оказывались в сфере тотальной по- лифемовщины, где обе банды кидались на них с одинаковым азартом.
Вот высунулся один - и пропал. Другой - молодой человек - угодил в больницу с инфарктом. Третьему заткнули глотку болшим грязным кляпом. Четвертый поспешил завести себе дружков среди володь и саш. Пятый покаялся, шестой раскололся. Остальных морили голодом и загоняли в угол - совсем как Полифем в пещере. Нужна была особая осторожность: рябчики со сторожевых вышек зорко просматривали окольцованные округи. И все же это была не пещера, - над головой в обжитых пространствах неба мыслили облака, деревья разбрасывали тень и переговаривались фонтаны. Картина еще более осложнилась, когда с эпатажем внепещерной Киклопии со знакомой лихостью поперли спецрябчики. “Их вынырывали” в благополучных местах и делали героями дня, законодателями мод, властителями эмигрантских эмоций.
Тягостно было Яузову видеть спутников и друзей, нищих российских литераторов, протирающих штаны в предбанниках кабинетов запущенных на орбиту чиновных рябчиков, решающих их литературную судьбу, “разрешающих” или “закрывающих” их. Трудно было понять человеку постороннему, что здесь происходит, где кончается литература и где начинается сыроварня киклопа.
“Мы приехали, и они приехали тоже, - жаловался Яузову знакомый литератор, - но почему так трудно отличить клюквенный сок от крови?”
“Они становятся интеллигентнее, - сообщил ему радостно другой, - они кинули мне подачку, когда я подыхал с голоду.”
“Ты увидишь, - шептал третий, сидя на витой железной скамье в Люксембургском саду под бодрым изваянием Афродиты, - мы скоро станем им нужны дозарезу. Они же ничего не умеют. Они придут к нам и попросят нашей помощи. Вот тут-то мы и начнем на них влиять”.
Остальные дипломатично обходили щекотливый вопрос, не входя в различение нюансов ауры бойких культруков, восхищаясь красотами озера Кинарет или оттенками скочей, либо поглощенные возведением собственных монументов из полурецензий, полуупоминаний, полуссылок, полувыставок. Военизированные Полифемы и полифемши охраняли задушенный и безгласный внепещерный город и его обитателей. Легкий туман - испарина страдания - поднимался под палящим одноглазым солнцем над внепещерной Киклопией.
Я ушел от них. Я бежал из промозглой, застылой и постылой Москвы, где так нежно, так обещающе, так раздавленно маячило лето, оставляя за собой прохладную боль несвершившегося. Я оставил юношеский ворох вздохов: пряность лип, жаркую августовскую пыль, грохот и звон трамваев, кладовочный дух угловых булочных, россыпи загородных нахтигалей и ромашек, прущих из любой щели, рассыпанных вдоль дорог, разбежавшихся во все стороны горизонта. И - друзей, тех, облепивших липким неряшливым любопытством, вездесущих и всеведующих, подстерегающих минуту слабости или растерянности, чтобы расколоть, вытянуть - даже неважно что: признание, страх, оговорку, трешку. Я ушел и от других: чванно загадочных, с гримасой усталой одутловатой отрыжки, недовольно одалживающих собою, примитивных сфинксов с грязной пищеварительной потребностью толкнуть, раздавить, заплевать, подсечь, сбросить. Я оставил и тех немногих безоглядно щедрых, никого вокруг не замечающих, разбрасывающих себя пригоршнями, превращающих жизнь в строку, рисунок, шутку, каприз. От этих я ушел, исчерпав и прискучив, заранее точно предвидя запой одного, зигзаг второго, враждебный финт третьего и последнего. Я забыл эту бесцельную кутерьму душевности, намеков, претензий и дрязг, этот вязкий унылый муравейник, из которого редко когда проглянет корректный жест, человеческий взгляд, точное слово.
Я бежал из Нью-Йорка, где плавящимся кошмаром всю зиму грозно маячило лето, где сальные монстры навеки приплюснуты к грязным окнам вагонов, где беднягу Маккейна в сабвее рвало от клоачных паров, где тела, не стыдясь безобразия, несут его, как подарок или навязчивую идею, где гангстеры-профессора совершают прыжки кенгуру с одной кафедры на другую, не теряя при этом собачьего контроля за оставленным местом, и где их циническая усмешка сопровождала мои судорожные усилия загородить, защитить, заслонить собой тайную радость фонтана. И я бы не защитил, не будь надо мной колпака Михаила: мягких воздушных потоков участия и добра в золотом омофоре.
Я ускользал от них в солнечные глубины египетских храмов с рядами застывших процессий, проплывающих вдоль массивных плоскостей стен и колонн к нишам, являющим изваяния то огненной птицы Бенну, то насупившегося быка Мневиса, то причудливого Туту, то маленьких хрупких Ушепти, статуэток-ответчиц за наши дела в мире теней. Я скрывался в орнаментах гобеленов Капетов и Каролингов, где по газонам с синелистыми деревьями среди россыпи цветов и кустов, птиц и зайцев бродили единороги и львы с желтыми мудрыми глазами, со щитами и стягами, охраняя золотоволосую плавнобедрую даму в жемчугах и сапфирах, то сплетающую венок, то играющую на клавикорде, то застигнутую неожиданным внутренним всполохом, услышанным, впрочем, и встрепенувшимися животными-духами.
Рябчики между тем раскололись на две друг к другу тяготеющие партии - полифемистов и антиполифемистов, или поли- фемовцев, - поделившие области контроля. Борьба с неподконтрольными влияниями велась обычными киклоповскими методами, так что не присоединившиеся ни к одной из партий, вылезая из своей конуры, неизбежно оказывались в сфере тотальной по- лифемовщины, где обе банды кидались на них с одинаковым азартом.
Вот высунулся один - и пропал. Другой - молодой человек - угодил в больницу с инфарктом. Третьему заткнули глотку болшим грязным кляпом. Четвертый поспешил завести себе дружков среди володь и саш. Пятый покаялся, шестой раскололся. Остальных морили голодом и загоняли в угол - совсем как Полифем в пещере. Нужна была особая осторожность: рябчики со сторожевых вышек зорко просматривали окольцованные округи. И все же это была не пещера, - над головой в обжитых пространствах неба мыслили облака, деревья разбрасывали тень и переговаривались фонтаны. Картина еще более осложнилась, когда с эпатажем внепещерной Киклопии со знакомой лихостью поперли спецрябчики. “Их вынырывали” в благополучных местах и делали героями дня, законодателями мод, властителями эмигрантских эмоций.
Тягостно было Яузову видеть спутников и друзей, нищих российских литераторов, протирающих штаны в предбанниках кабинетов запущенных на орбиту чиновных рябчиков, решающих их литературную судьбу, “разрешающих” или “закрывающих” их. Трудно было понять человеку постороннему, что здесь происходит, где кончается литература и где начинается сыроварня киклопа.
“Мы приехали, и они приехали тоже, - жаловался Яузову знакомый литератор, - но почему так трудно отличить клюквенный сок от крови?”
“Они становятся интеллигентнее, - сообщил ему радостно другой, - они кинули мне подачку, когда я подыхал с голоду.”
“Ты увидишь, - шептал третий, сидя на витой железной скамье в Люксембургском саду под бодрым изваянием Афродиты, - мы скоро станем им нужны дозарезу. Они же ничего не умеют. Они придут к нам и попросят нашей помощи. Вот тут-то мы и начнем на них влиять”.
Остальные дипломатично обходили щекотливый вопрос, не входя в различение нюансов ауры бойких культруков, восхищаясь красотами озера Кинарет или оттенками скочей, либо поглощенные возведением собственных монументов из полурецензий, полуупоминаний, полуссылок, полувыставок. Военизированные Полифемы и полифемши охраняли задушенный и безгласный внепещерный город и его обитателей. Легкий туман - испарина страдания - поднимался под палящим одноглазым солнцем над внепещерной Киклопией.
Я ушел от них. Я бежал из промозглой, застылой и постылой Москвы, где так нежно, так обещающе, так раздавленно маячило лето, оставляя за собой прохладную боль несвершившегося. Я оставил юношеский ворох вздохов: пряность лип, жаркую августовскую пыль, грохот и звон трамваев, кладовочный дух угловых булочных, россыпи загородных нахтигалей и ромашек, прущих из любой щели, рассыпанных вдоль дорог, разбежавшихся во все стороны горизонта. И - друзей, тех, облепивших липким неряшливым любопытством, вездесущих и всеведующих, подстерегающих минуту слабости или растерянности, чтобы расколоть, вытянуть - даже неважно что: признание, страх, оговорку, трешку. Я ушел и от других: чванно загадочных, с гримасой усталой одутловатой отрыжки, недовольно одалживающих собою, примитивных сфинксов с грязной пищеварительной потребностью толкнуть, раздавить, заплевать, подсечь, сбросить. Я оставил и тех немногих безоглядно щедрых, никого вокруг не замечающих, разбрасывающих себя пригоршнями, превращающих жизнь в строку, рисунок, шутку, каприз. От этих я ушел, исчерпав и прискучив, заранее точно предвидя запой одного, зигзаг второго, враждебный финт третьего и последнего. Я забыл эту бесцельную кутерьму душевности, намеков, претензий и дрязг, этот вязкий унылый муравейник, из которого редко когда проглянет корректный жест, человеческий взгляд, точное слово.
Я бежал из Нью-Йорка, где плавящимся кошмаром всю зиму грозно маячило лето, где сальные монстры навеки приплюснуты к грязным окнам вагонов, где беднягу Маккейна в сабвее рвало от клоачных паров, где тела, не стыдясь безобразия, несут его, как подарок или навязчивую идею, где гангстеры-профессора совершают прыжки кенгуру с одной кафедры на другую, не теряя при этом собачьего контроля за оставленным местом, и где их циническая усмешка сопровождала мои судорожные усилия загородить, защитить, заслонить собой тайную радость фонтана. И я бы не защитил, не будь надо мной колпака Михаила: мягких воздушных потоков участия и добра в золотом омофоре.
Я ускользал от них в солнечные глубины египетских храмов с рядами застывших процессий, проплывающих вдоль массивных плоскостей стен и колонн к нишам, являющим изваяния то огненной птицы Бенну, то насупившегося быка Мневиса, то причудливого Туту, то маленьких хрупких Ушепти, статуэток-ответчиц за наши дела в мире теней. Я скрывался в орнаментах гобеленов Капетов и Каролингов, где по газонам с синелистыми деревьями среди россыпи цветов и кустов, птиц и зайцев бродили единороги и львы с желтыми мудрыми глазами, со щитами и стягами, охраняя золотоволосую плавнобедрую даму в жемчугах и сапфирах, то сплетающую венок, то играющую на клавикорде, то застигнутую неожиданным внутренним всполохом, услышанным, впрочем, и встрепенувшимися животными-духами.
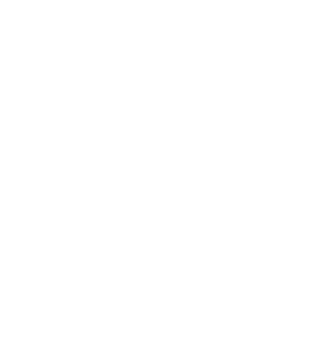
и, помешкав, менял золотое руно на оккультную легкость петербургской ивановской башни. Наконец, я заперся на шестом этаже за дверью в конце коридора с надолго погасшими лампочками.
Я ушел не один. Три эха сочувственно откликнулись на мои одичалые мысли. Лица смотрели строго и озабоченно. Фигуры лепились из складок теней, из лунных бликов, из ткани воздуха и орнамента мыслей. Мы разыгрывали квартеты, и музыка плелась из наших судорожных судеб и неутоленных вопрошаний. Ответы мы находили в тайных лабораториях надежды, в вязких волокнах памяти, неутомимо сплетающих ткань парусов для побега.
Три отшельника были опорой в моих одиноких стремлениях. Один из трех, болезненно уязвимый и нервно изможденный, с заметной дрожью холеных с синевой рук, с бородкой-эспаньолкой и причудливым скосом усов, с пупырышками в зеленых подглазьях, борясь с тяжестью век, с тяжестью бодрствования, с деспотизмом зрения, парировал вызовы природы законченной точностью жеста и едкостью мысли. То был истонченный бельгиец, упрекавший природу за убожество воображения, а общество - за предсказуемую пустоту и примитивность, бежавший вслед за Дес Эссантом из бальзаковско-гюгошного лавочного и угарного Парижа, из мира кретинов и кокоток, укрывшийся на борту загороднего шато, где, нарядив служанку во фламандский костюм и заслонив окна аквариумами, он пестовал полку с латинянами, на которой, прислонившись, друг к другу стояли
“лебедь Мантуи” - нежный Вергилий –
болтливый Цицерон и лапидарный Цезарь –
бесцветный Сенека и лимфатический Светоний –
Тацит с его выразительной сухостью –
пылкие Ювенал и Персий -
и тут же Лукиан с его прямым металлическим напором и умственной нищетой -
и аналитик Петроний, с ленивой роскошью бытописующий злачные закатные будни Рима -
и сюрно-иронический Апулей, латынь которого гибко вобрала в себя язык провинций, полный неологизмов, маньеризма и живописной силы -
теологический абсурдист Тертуллиан и его назидательный ученик Киприан, открывшие новую эпоху христианской латыни -
и рядом “Кармен апологетикум” Каммодиана из Газы: нравственные аксиомы, втиснутые в акростих из грубого гекзаметра, разделенного цезурой на манер героических стихов -
наконец, Клавдиан, Рутилий и Авзоний наполнившие криками ламентаций умирающую империю: Клавдиан - аватар Лукиана, воспевший похищение и возвращение Персефоны, населивший наступающую темноту пылающими красками и величием прошлого, последний языческий поэт, поднявшийся над водами христианского потопа, окончательно затопившего классический урбус латыни -
и новое:
Афанасий, боровшийся за веру в Никее -
Амвросий, автор неудобоваримых гомилей, скучный христианский Цицерон -
Иероним, переводчик “Вальгаты” -
Августин из Гиппов, опротивевший своей неизбежностью -
Пруденций с его “Психомахией” -
Сидоний Аполлинарий, мастер афоризмов и энигм - алфавитные гимны Седулия...
Кали-юга, середина пятого века, время потрясений и конвульсий, варвары побеждают галлов, а Рим, истощенный вестготами, слышит холод смерти в своем парализованном теле и с ужасом отворачивает взгляд от кровавых разгулов на Западе и на Востоке. Посреди всеобщей разрухи, отзвуков и отблесков гула и резни, волной накрывших Европу, из конца в конец прозвучало вдруг пугающее отдаленное эхо, заставившее замолкнуть всякий иной шум, любой иной голос. Из задунайских степей тысячи завернутых в крысиные шкурки наездников - уродливых, с огромными головами, плоскими носами, безволосых, свирепых, исполосованных шрамами - ворвались, как адский вихрь, на территорию Нижней империи, смерчем сметая все на пути. Европа исчезла в пыли их подков, в дыму их костров. Тьма охватила мир, империя сжалась в невидимую точку чистой потенции, люди дрожали в землянках и норах, слыша страшный ураган, проходящий над ними. Орды гуннов пронеслись по Европе, обрушились на галлов и были задержаны только на полях Шелони, где Этей свел с ними свои войска в страшной схватке. Земля захлебнулась кровью и была подобна морю темно-бордовой пены. Двести тысяч тел загородили путь гуннам и ослабили инерцию их движения. Свернув на юг, как молния, налетели они на Италию, города которой рассыпались от землетрясений и виттовых политических плясок. Западная империя распалась под ударами Провидения. Жалкая расслабленная жизнь истаивала, угасала. Казалось, это был конец света, ибо города, которые забыл разорить Аттила, добивались эйдосом и холерой. Латынь, казалось, исчезла навсегда под руинами старого мира. Но проходили годы, и зычные варварские рыки отливались в звучные идиомы будущих истинных языков. И латынь, ушедшая до поры в монастыри, в леса и подземелья, уже пробовала свое звучание в Новом Свете и порождала новое уродливое эхо...
Рядом с закинутым профилем с намеком на эспаньолку и усами готической лепки, предметом особой заботы Дес Эссанта, взгляд мой ласкали золотые по синему лилии - уют загороженного с гнутой мебелью кабинета автора “Санкт-петербургских диалогов”. Мартинист, стоик, сенатор, он привез в Россию вывезенную им из падшей Франции этическую систему посвященных, классический пирамидальный космос с сувереном - носителем Божественной воли - на вершине. Царственным покоем веет от мыслей этого изгнанника, жившего милостью при русском дворе. Из разодранной ненавистью и гильотинами страны он увез с собой строгий величавый образ мира должного и вложил его в пьяные мечтами и незрелыми фантазиями головы гусар.
“Естественно человеку быть цельным, и естественно обществу иметь одного монарха”, - рассуждал он, греясь об отзыв светлых славянских глаз, предлагая благородным сердцам ту изящную ясность, до которой не дотянуться никакому тренированному уму. “Естественны строгость и самоограничение для каждого из нас, и то же справедливо в отношении общества”.
Апеллируя к способности благородного сердца без особых усилий и без мозольных трудов постижения отличить истину от правдоподобия, он спокойно разоблачал софизмы демагогов, замечая, что ложные идеи подобны фальшивым деньгам: сфабрикованные жуликами, они циркулируют среди добрых людей, совершающих невольное преступление.
“Это не просто ложная, но очевидно ложная идея, что преступление благоденствует, а добродетель страдает.” И вопрос должен формулироваться иначе: “Почему в этой временной жизни справедливые люди не избавлены от несчастий, которые предназначены злым, и почему злые не лишены тех благ, которые предназначены добрым?”
“Добрый человек страдает не потому, что он добрый, а злой процветает не потому, что он злой, и потому вопрос, почему добродетельный человек страдает, ведет к другому: почему человек вообще страдает?”
В то же время он напоминал: “Нельзя истребить онтологическое различие между душами, стереть разницу между гением и бездарью, умным и глупцом”.
Доверительно признавался: “Тайна истории - аристократическая тайна. Дух Божий спускается через наследственную аристократию, но прежде всего - аристократию духовную. Дух же большинства - провинциальный и стихийный. Монархия - это квинтэссенция аристократии. Она - наиболее древняя и наиболее естественная форма власти. Ее противоположности - демократия и тирания. В ней, как в эмблеме, запечатлен пирамидальный образ Божественного космоса”.
Я, переживший добровольное изгнанничество с Дес Эссантом и насильственное - с де Местром, сердцем своим прилепился к третьему метафизическому беглецу - к Августу Стриндбергу, пылкому херувиму, сброшенному с неба в сей экскрементный ад. С лобасто-мясистой головой, с тяжелым недоверием в упорно беспокойном взгляде смотрел он на меня с выцветшей обложки, упираясь корешком в мои “Калалацы”.
Вслед за божественным Гаутамой оставивший жену и ребенка, окунувшийся в омут безвестного одиночества, подвергшийся добровольному самомучительству, он скорбно проповедовал: “Довольно любви, довольно денег, довольно славы! Крестный путь - вот единственное, что ведет к высшему знанию!” Пытался словами передать невыразимое: “Мне трудно объяснить, но какая-то религия рождается во мне. Это скорее внутреннее состояние, чем интеллектуальная позиция и убеждение - путаница чувств, которая медленно оседает в мысли”.
Опутанный заговорами, он знал, что это не человеческие дела - но ненависть черных эйдолонов, и дерзко дразнил их. Он жил окруженный смертью, читая жизнь, как открытую книгу. Два листка из проросшей фасолины протягивали к нему молитвенные ладони с растопыренными пальчиками. Ветки под ногами в Люксембургском саду чертили ему таинственные знаки. Жилец за стеной зеркально повторял его: ел в те же часы, читал и писал за столом, сидя к нему лицом, одновременно переворачивал страницу книги, вздыхал и, вставая, отодвигал стул, ложился в постель параллельно с ним, гасил лампу, тяжело дышал, ворочался с боку на бок. Он видел магические цепи, слышал приближающуюся угрозу, пока черные эйдолоны не перешли, наконец, в прямое наступление. Исследуя свою жизнь, он видел себя в центре смерча из дантовского ада и отражал черный смерч эйдолонов “чернотою святых” - нервной завязью живого страдания.
Безошибочно следуя за эхом тройным своих мудрых вожатых в лабиринтах киклопа, Женя Яузов вел ладью своей жизни на торжественный ослепительный свет пораженья.
Я ушел не один. Три эха сочувственно откликнулись на мои одичалые мысли. Лица смотрели строго и озабоченно. Фигуры лепились из складок теней, из лунных бликов, из ткани воздуха и орнамента мыслей. Мы разыгрывали квартеты, и музыка плелась из наших судорожных судеб и неутоленных вопрошаний. Ответы мы находили в тайных лабораториях надежды, в вязких волокнах памяти, неутомимо сплетающих ткань парусов для побега.
Три отшельника были опорой в моих одиноких стремлениях. Один из трех, болезненно уязвимый и нервно изможденный, с заметной дрожью холеных с синевой рук, с бородкой-эспаньолкой и причудливым скосом усов, с пупырышками в зеленых подглазьях, борясь с тяжестью век, с тяжестью бодрствования, с деспотизмом зрения, парировал вызовы природы законченной точностью жеста и едкостью мысли. То был истонченный бельгиец, упрекавший природу за убожество воображения, а общество - за предсказуемую пустоту и примитивность, бежавший вслед за Дес Эссантом из бальзаковско-гюгошного лавочного и угарного Парижа, из мира кретинов и кокоток, укрывшийся на борту загороднего шато, где, нарядив служанку во фламандский костюм и заслонив окна аквариумами, он пестовал полку с латинянами, на которой, прислонившись, друг к другу стояли
“лебедь Мантуи” - нежный Вергилий –
болтливый Цицерон и лапидарный Цезарь –
бесцветный Сенека и лимфатический Светоний –
Тацит с его выразительной сухостью –
пылкие Ювенал и Персий -
и тут же Лукиан с его прямым металлическим напором и умственной нищетой -
и аналитик Петроний, с ленивой роскошью бытописующий злачные закатные будни Рима -
и сюрно-иронический Апулей, латынь которого гибко вобрала в себя язык провинций, полный неологизмов, маньеризма и живописной силы -
теологический абсурдист Тертуллиан и его назидательный ученик Киприан, открывшие новую эпоху христианской латыни -
и рядом “Кармен апологетикум” Каммодиана из Газы: нравственные аксиомы, втиснутые в акростих из грубого гекзаметра, разделенного цезурой на манер героических стихов -
наконец, Клавдиан, Рутилий и Авзоний наполнившие криками ламентаций умирающую империю: Клавдиан - аватар Лукиана, воспевший похищение и возвращение Персефоны, населивший наступающую темноту пылающими красками и величием прошлого, последний языческий поэт, поднявшийся над водами христианского потопа, окончательно затопившего классический урбус латыни -
и новое:
Афанасий, боровшийся за веру в Никее -
Амвросий, автор неудобоваримых гомилей, скучный христианский Цицерон -
Иероним, переводчик “Вальгаты” -
Августин из Гиппов, опротивевший своей неизбежностью -
Пруденций с его “Психомахией” -
Сидоний Аполлинарий, мастер афоризмов и энигм - алфавитные гимны Седулия...
Кали-юга, середина пятого века, время потрясений и конвульсий, варвары побеждают галлов, а Рим, истощенный вестготами, слышит холод смерти в своем парализованном теле и с ужасом отворачивает взгляд от кровавых разгулов на Западе и на Востоке. Посреди всеобщей разрухи, отзвуков и отблесков гула и резни, волной накрывших Европу, из конца в конец прозвучало вдруг пугающее отдаленное эхо, заставившее замолкнуть всякий иной шум, любой иной голос. Из задунайских степей тысячи завернутых в крысиные шкурки наездников - уродливых, с огромными головами, плоскими носами, безволосых, свирепых, исполосованных шрамами - ворвались, как адский вихрь, на территорию Нижней империи, смерчем сметая все на пути. Европа исчезла в пыли их подков, в дыму их костров. Тьма охватила мир, империя сжалась в невидимую точку чистой потенции, люди дрожали в землянках и норах, слыша страшный ураган, проходящий над ними. Орды гуннов пронеслись по Европе, обрушились на галлов и были задержаны только на полях Шелони, где Этей свел с ними свои войска в страшной схватке. Земля захлебнулась кровью и была подобна морю темно-бордовой пены. Двести тысяч тел загородили путь гуннам и ослабили инерцию их движения. Свернув на юг, как молния, налетели они на Италию, города которой рассыпались от землетрясений и виттовых политических плясок. Западная империя распалась под ударами Провидения. Жалкая расслабленная жизнь истаивала, угасала. Казалось, это был конец света, ибо города, которые забыл разорить Аттила, добивались эйдосом и холерой. Латынь, казалось, исчезла навсегда под руинами старого мира. Но проходили годы, и зычные варварские рыки отливались в звучные идиомы будущих истинных языков. И латынь, ушедшая до поры в монастыри, в леса и подземелья, уже пробовала свое звучание в Новом Свете и порождала новое уродливое эхо...
Рядом с закинутым профилем с намеком на эспаньолку и усами готической лепки, предметом особой заботы Дес Эссанта, взгляд мой ласкали золотые по синему лилии - уют загороженного с гнутой мебелью кабинета автора “Санкт-петербургских диалогов”. Мартинист, стоик, сенатор, он привез в Россию вывезенную им из падшей Франции этическую систему посвященных, классический пирамидальный космос с сувереном - носителем Божественной воли - на вершине. Царственным покоем веет от мыслей этого изгнанника, жившего милостью при русском дворе. Из разодранной ненавистью и гильотинами страны он увез с собой строгий величавый образ мира должного и вложил его в пьяные мечтами и незрелыми фантазиями головы гусар.
“Естественно человеку быть цельным, и естественно обществу иметь одного монарха”, - рассуждал он, греясь об отзыв светлых славянских глаз, предлагая благородным сердцам ту изящную ясность, до которой не дотянуться никакому тренированному уму. “Естественны строгость и самоограничение для каждого из нас, и то же справедливо в отношении общества”.
Апеллируя к способности благородного сердца без особых усилий и без мозольных трудов постижения отличить истину от правдоподобия, он спокойно разоблачал софизмы демагогов, замечая, что ложные идеи подобны фальшивым деньгам: сфабрикованные жуликами, они циркулируют среди добрых людей, совершающих невольное преступление.
“Это не просто ложная, но очевидно ложная идея, что преступление благоденствует, а добродетель страдает.” И вопрос должен формулироваться иначе: “Почему в этой временной жизни справедливые люди не избавлены от несчастий, которые предназначены злым, и почему злые не лишены тех благ, которые предназначены добрым?”
“Добрый человек страдает не потому, что он добрый, а злой процветает не потому, что он злой, и потому вопрос, почему добродетельный человек страдает, ведет к другому: почему человек вообще страдает?”
В то же время он напоминал: “Нельзя истребить онтологическое различие между душами, стереть разницу между гением и бездарью, умным и глупцом”.
Доверительно признавался: “Тайна истории - аристократическая тайна. Дух Божий спускается через наследственную аристократию, но прежде всего - аристократию духовную. Дух же большинства - провинциальный и стихийный. Монархия - это квинтэссенция аристократии. Она - наиболее древняя и наиболее естественная форма власти. Ее противоположности - демократия и тирания. В ней, как в эмблеме, запечатлен пирамидальный образ Божественного космоса”.
Я, переживший добровольное изгнанничество с Дес Эссантом и насильственное - с де Местром, сердцем своим прилепился к третьему метафизическому беглецу - к Августу Стриндбергу, пылкому херувиму, сброшенному с неба в сей экскрементный ад. С лобасто-мясистой головой, с тяжелым недоверием в упорно беспокойном взгляде смотрел он на меня с выцветшей обложки, упираясь корешком в мои “Калалацы”.
Вслед за божественным Гаутамой оставивший жену и ребенка, окунувшийся в омут безвестного одиночества, подвергшийся добровольному самомучительству, он скорбно проповедовал: “Довольно любви, довольно денег, довольно славы! Крестный путь - вот единственное, что ведет к высшему знанию!” Пытался словами передать невыразимое: “Мне трудно объяснить, но какая-то религия рождается во мне. Это скорее внутреннее состояние, чем интеллектуальная позиция и убеждение - путаница чувств, которая медленно оседает в мысли”.
Опутанный заговорами, он знал, что это не человеческие дела - но ненависть черных эйдолонов, и дерзко дразнил их. Он жил окруженный смертью, читая жизнь, как открытую книгу. Два листка из проросшей фасолины протягивали к нему молитвенные ладони с растопыренными пальчиками. Ветки под ногами в Люксембургском саду чертили ему таинственные знаки. Жилец за стеной зеркально повторял его: ел в те же часы, читал и писал за столом, сидя к нему лицом, одновременно переворачивал страницу книги, вздыхал и, вставая, отодвигал стул, ложился в постель параллельно с ним, гасил лампу, тяжело дышал, ворочался с боку на бок. Он видел магические цепи, слышал приближающуюся угрозу, пока черные эйдолоны не перешли, наконец, в прямое наступление. Исследуя свою жизнь, он видел себя в центре смерча из дантовского ада и отражал черный смерч эйдолонов “чернотою святых” - нервной завязью живого страдания.
Безошибочно следуя за эхом тройным своих мудрых вожатых в лабиринтах киклопа, Женя Яузов вел ладью своей жизни на торжественный ослепительный свет пораженья.
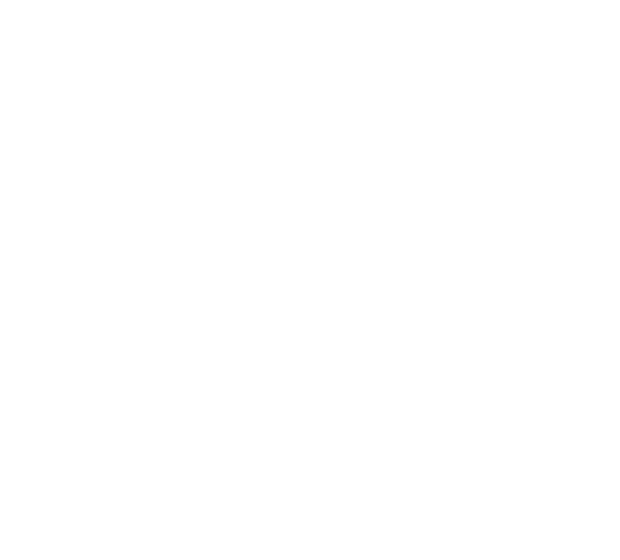
Ход королём
Избранная проза, том 2. 1998 г.
Избранная проза, том 2. 1998 г.
Издательство: Миф
Год издания: 1998
Страниц: 288
Формат: 20.5 x 14.5 x 2 см
Обложка: твёрдая
ISBN: 5-89395-167-8
Год издания: 1998
Страниц: 288
Формат: 20.5 x 14.5 x 2 см
Обложка: твёрдая
ISBN: 5-89395-167-8
Второй том включает в себя книгу нью-йоркской прозы 80-х годов «Пузыри земли»: повести и рассказы, тексты и мини-тексты, «трактат-скандал» «Кубики-рубики»; а также роман «Ход королем».
Книга в наличии: